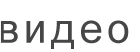Вот представьте: беседуют два человека – умные, интеллигентные, с чувством юмора, с прекрасной речью; и тема занимательная для обоих, и разговор выходит глубокий… Но вдруг налетает назойливая… ну, скажем, оса; и принимается виться вокруг и зудеть безотвязно. Прихлопнуть бы неполезное насекомое, да как-то жалко: божья тварь все-таки. А она наглеет пуще прежнего. Носится, пристает, отвлекает собеседников – и многообещающий разговор постепенно угасает и сходит на нет.
Примерно такое впечатление вызывает эта книга. Разумеется, к самой переписке Михаила Булгакова с его другом и биографом Павлом Поповым претензий нет. Хотя материал не содержит ничего сенсационного (подавляющее большинство писем давно опубликовано), но лишний раз прочитать диалог талантливых и остроумных людей всегда приятно и поучительно. Беда в том, что внимание отвлекают изумительные в своем роде тексты составительницы – В. Гудковой. Сказать по правде, не часто встречаются в книгах подобные образчики лихорадочного красноречия.
Из 235 страниц, которые занимает текст (еще примерно на 30 страницах помещены фотографии), «составительница» урвала под свои личные писания более одной трети: 55 страниц – вступительная статья и еще почти столько же – примечания мелким шрифтом. Раз книжка «на троих», то и жилплощадь поровну – логика в духе жилищного кризиса (он же квартирный вопрос). Имея возможность вытворять на своей «площади» все что заблагорассудится, В. Гудкова принимается за дело. «…Нет необходимости подробно рассказывать о биографии писателя. Напомним лишь о важных, поворотных ее узлах» (с. 7), – обещает она. Несмотря на окрыляющую новацию «поворотный узел» (попытайтесь-ка представить!), дальше на десяти страницах пересказывается-таки булгаковская биография – причем весьма хаотично: велеречивая составительница не удосужилась сказать ни про «Записки юного врача», ни про роман «Жизнь господина де Мольера», ни про пьесу о Мольере – и вообще не упомянула ни об одной из оригинальных пьес Булгакова 1930-х годов. Очевидно, эти произведения не связаны с «поворотными узлами» биографии писателя (или просто В. Гудкова не в курсе).
Понаблюдаем теперь, как выражает свои мысли кандидат каких-то наук. «Все литературные (бесспорные) достоинства писем Павла Сергеевича к Булгакову не могут заслонить для сегодняшнего читателя главное: глубокую преданность другу, веру в его талант, которая не могла не ощущаться писателем» (с. 50). Почему литературные достоинства текста должны «заслонять» преданность и любовь его автора – это одной В. Гудковой известно. «…Из письменных документов и бесценных устных свидетельств лично помнивших, знавших Булгакова, была извлечена биография писателя» (с. 5–6; пунктуация оригинала). Не знаю, что значит «лично помнить» (вероятно, «помнить» можно и через третье лицо), но как бы то ни было – начинается «извлечение» биографии. Увлекательность чтения писем, по мнению «составительницы», обусловлена «принципиальной непрозрачностью, невозможностью проникновения в душевный, да даже и действенный, “поступковый” ряд жизни другого человека» (с. 53). Однако она обнаруживает в письмах Булгакова «неубиваемое самоощущение живущего литературой человека, от литературы “разрешенной” отлучаемого, отдираемого» (с. 46). К тому же «булгаковское творчество – будь то в прозе или в эпистолярии – выделяется прозрачной пластичностью русского языка, являет образец ясного и отвечающего за себя литературного высказывания, с лихвой обеспеченного золотым запасом так, а не иначе прожитой жизни» (с. 7). Поскольку речения самой В. Гудковой подобного «образца» не «являют», позволю себе осведомиться про «так, а иначе прожитую жизнь»: не кажется ли высокоученой даме, что жизнь у каждого человека именно «такая» (т.е. собственная) и Булгаков в этом смысле не составляет исключения?
В формировании будущего писателя, по В. Гудковой, «бесспорны влияние и роль семьи» (с. 8) – видимо, «влияние» и «роль» не одно и то же. А вот какова эта самая семья: в ней «царит безусловный авторитет знания и презрение к невежеству, не отдающему себе в этом (в чем? – Е.Я.) отчета» (с. 8). Вот – об отце: «“Моя любовь – зеленая лампа в моем кабинете”, – напишет позже Булгаков, вспоминая допоздна засиживающегося за работой отца» (8); то ли отец был похож на лампу, то ли лампа досталась писателю от отца – непонятно. Кстати, «отец умирает от болезни почек, когда Михаилу всего 16 лет. Тем не менее будущее не отменено» (с. 8). Надо ли понимать так, что ввиду ранней смерти отца дети тоже должны были сразу и поголовно вымереть и лишь чудом избежали этой участи?
Вот «составительница» декламирует про Булгакова на войне: «Раненые, страдающие люди стали его врачебным крещением. “Заплатит ли кто-нибудь за кровь? Нет. Никто”, – напишет он через несколько лет на страницах “Белой гвардии”» (с. 8). Жалованья, что ли, недодали военному врачу? Кстати, о медицине: «Необходимость безотлагательного принятия самостоятельных решений обнаружит в Булгакове нечастый дар врача-диагноста» (с. 9). Кто кого «обнаружит»? Или – как писал «врач-диагност» в одной своей повести – «кто на ком стоял?» Начинается гражданская война – «каждая власть проводит мобилизацию, и врачи необходимы всем, кто держит в руках ружье» (с. 10). При чем тут «ружье» – не на охоту же мобилизовали… А артиллеристам, например, врачи были не нужны? Или морякам? Впрочем, Булгаков у В. Гудковой идет своим путем. «Индивидуалистический выбор, связанный с постоянной напряженностью морального поля, на фоне слома рутинного течения жизни, экстремальной повседневности формировали будущего писателя» (с. 8). «Для него характерны стремление к позитивному, действенному знанию и серьезность размышлений над атеистическим миросозерцанием “естественника”, с одной стороны, – и верой в высшее начало, с другой» (с. 9). Такие вот дела…
Многие обороты гудковской речи свидетельствуют о явном желании «сделать красиво» – иначе говоря, создают отчетливый образ чесания правого уха левой рукой. Вот, например, пассаж про инсценировку «Мертвых душ»: «Можно представить, с какой бессильной горечью читал Булгаков упреки Белого, не могущего ведать о его загубленном замысле, о проигранном споре с театром, осуществившем ту самую “ампутацию” реальных кусков гоголевской поэмы, о которой писал Попов» (с. 50). Про П. Попова говорится, что «широкий кругозор и основательный фундамент философского образования» сказались у него «в отсутствии чрезмерности пиэтета, препятствующего свободному анализу предмета» (с. 25). О допросах Попова в ОГПУ: «Характерно как многообразие возможных обвинений, так и то, что они – в большей или меньшей степени – подтвердились. Ясно, что человек “не мог попасть на Лубянку”, а скорее, просто не мог туда не попасть – так широко была раскинута сеть в годы великого перелома» (с. 32). Что-нибудь поняли? Вот и я...
А вот опять про Булгакова: «Писательская ермолка в противовес “берету с хвостиком” и “клетчатым штанам”, погреб с Клико, зажженные свечи – все это знаки манифестации, предъявления своего, индивидуального, одному ему принадлежащего времени. Писатель природно более свободен, нежели большинство живущих рядом. Оттого он одинок – и не одинок. Не уверен в себе – и знает, что “прав в ‘Мастере и Маргарите’”. Такой же “сукин сын”, как и “командор ордена русских писателей”» (с. 52). Похвалила или наоборот? А теперь – об одном из братьев писателя: «Иван Афанасьевич Булгаков (1900–1960), очутившись в эмиграции юношей, не успевшим получить образование, так и не обрел себя» (с. 119). Что означают эти пустые слова? Ну, прожил человек до самой смерти во Франции, имел семью, писал стихи, играл в оркестре (пусть на балалайке), но ведь не спился же, не повесился. А что высшего образования не получил – не такая уж беда: некоторые и с дипломами, и с учеными степенями бубнят такое, что хоть святых вон выноси.
Сочетание косноязычия с внутренней глухотой сплошь и рядом порождает комический эффект: «Религиозные семинары в частных квартирах проводят в свободное от службы время» (с. 27); о какой «службе» речь, церковной или государственной, – непонятно. Дурным каламбуром звучит фраза: «Осенью 1939 года у Булгакова открывается внезапная слепота» (с. 17). Дальше – странный вывод: «Воля смертельно больного писателя лишь отодвигает смерть, наступившую 10 марта 1940 года». При чем тут воля? Проболел полгода и умер – что и куда, спрашивается, он «отодвинул»?
И множество других мелочей. Например, П. Попов в 1920-х годах «читал курс логики в московском Институте слова и проч.» (с. 26) – странное какое-то название для учебного заведения. В булгаковских повестях рассказано «о болевых точках современного дня» (с. 12). Между писателями невозможно отыскать «общих точек соприкосновения» (с. 54) – словно такие «точки» бывают «необщими». А латинский фразеологизм qui pro quo переведен как «перемены одного на другое» (с. 172), хотя означает просто «недоразумение». И т.д. и т.п.
Стоит ли сомневаться, что человек, который так хаотично излагает, столь же неряшливо и мыслит. Начнем с впечатляющего числа фактических ошибок. Например, сообщается, что Булгаков был выпущен из университета якобы «ратником второго ополчения» (с. 8), – это элементарный нонсенс: на самом деле будущий писатель отбывал воинскую повинность как «ратник ополчения второго разряда». О Булгакове говорится как о «враче-венерологе в Киеве 1919 года» (с. 55) – однако хорошо известно, что частнопрактикующим врачом он стал сразу по приезде в Киев в марте 1918-го. Пытаясь комментировать известные слова писателя о совершённых им в жизни «пяти роковых ошибках», В. Гудкова глубокомысленно вещает: «Ясно, что речь идет о поступках переломных, меняющих течение жизни», – после чего включает в число таких «поступков»… тиф, из-за которого в 1920 г. Булгаков не смог уйти вместе с белыми (с. 115). Почему-то всегда казалось, что «поступок» есть нечто зависящее от самого человека, обусловленное выбором, а болезнь к числу подобных феноменов не относится. Интересно: свои собственные недомогания В. Гудкова (пусть она будет здорова) тоже числит «ошибками»? Кстати, с болезнями у нее странные отношения; допустим, героя булгаковских «Записок на манжетах» именует «тифозным» (с. 14), словно это его постоянный признак, – хотя рассказ о перенесенном тифе занимает в этой повести пять страниц из двадцати пяти. С неменьшим успехом можно было бы окрестить «тифозным» тургеневского Базарова, который, как известно, заразился при вскрытии умершего от тифа мужика…
Продолжим поучительное чтение. Как явствует из статьи, «в 1925 году в журнале “Россия” появляется первая часть “Белой гвардии”» (с. 12); на самом же деле (факт общеизвестный) в «России» вышли две части романа. В. Гудкова сообщает, что в 1925 г. «Булгаков начинает сочинять пьесу по мотивам “Белой гвардии”» (с. 13), – ну а как насчет пьесы «Братья Турбины», которую он сочинил еще в 1920 г., за несколько лет до романа, и про которую «булгаковедка» даже не упоминает? После запрещения булгаковских пьес весной 1929 г., повествует она, «в отчаянии Булгаков пишет письмо правительству» (с. 14) – логично заключить, что речь идет о событиях того же года. Действительно, летом 1929 г. Булгаков написал первое из известных письмо Сталину и письмо начальнику Главискусства Свидерскому, а в сентябре – еще и секретарю ЦИК Енукидзе. Которое же из них имеется в виду? Оказывается, ни то, ни другое, ни третье; цитируется (без всякой датировки) письмо от 28 марта 1930 г. Что было дальше? «Результатом булгаковского обращения к Правительству становится превращение свободного литератора в служащего МХАТ» (с. 15–16). Читатель, незнакомый с биографией писателя, может решить, что того принудительно назначили кассиром или капельдинером. На деле Булгаков сам попросился режиссером-ассистентом (служащий?), и с «подачи» Сталина его приняли во МХАТ. Но значит ли это, что он перестал быть «свободным литератором»? А как же тогда роман «Мастер и Маргарита», работа над которым (как и над другими вполне «свободными» произведениями) активно велась в годы «службы» во МХАТе, а потом в ГАБТе? Не говоря уж о том, что слово «литератор» применительно к автору романа о МАССОЛИТе мог употребить только человек с откровенно дурным вкусом.
Особенно замечательна гудковская интерпретация «Мастера и Маргариты». «Булгаков пишет апокрифическое “евангелие от Воланда”, рассказывая о появлении дьявола в Москве 1930-х годов» (с. 16). Как это понимать? Стало быть, Воланд в своем «евангелии» повествует сам о себе? А мы почему-то всегда полагали, что он рассказывает о Понтии Пилате – да и не о Москве, и не о 1930-х годах… Идем дальше. «Верность проникновения в историческую реальность, засвидетельствованная Воландом, подтверждает тем самым и точность описания Мастером настоящего» (с. 16). Стоп! Значит, Мастер в своем романе «описывает» современную ему жизнь? Откуда бы это? Далее: «…Булгаков выступил с подчеркнуто субъективным взглядом на события мировой истории <…> Не случайно литые “древние главы” романа <…> вводятся писателем как истина, открывшаяся отдельному человеку…» (с. 16–17). Опять непонятно: либо «субъективный взгляд», либо «истина» – третьего вроде не дано; а если, по В. Гудковой, дано, так надо объяснить по-человечески (впрочем, это тоже не всем дано). Зато нам сообщают, что в клинике профессора Стравинского «нашел успокоение и приют Иван Бездомный, будущий историк и ученик Мастера» (с. 31). Стало быть, так: человек устроил в ресторане дебош, и его, предварительно связав полотенцами, отвезли на грузовике в дурдом – это означает, что он «нашел успокоение и приют». Теперь будем знать.
Среди россыпи ошибок и несуразиц нет-нет да и мелькнут такие, что вызывают не столько возмущение, сколько улыбку. Оказывается, напримекр, что А. Стецкий заведовал «Отделом культуры пропаганды ЦК ВКП(б)» (с. 188). Много было отделов в том ЦК, но до «культуры пропаганды» даже большевики не додумались; а Стецкий возглавлял Отдел агитации и пропаганды,Агитпроп (помните, у Маяковского: «И мне Агитпроп в зубах навяз…»). Неужто «специалистка» даже этого не знает? Вполне возможно; ведь заявляет же она, что П. Попов, написавший статью о влиянии Жорж Санд на Ф. Достоевского, поступил нетрадиционно, новаторски, ибо заговорил-де «о влиянии писателя третьестепенного – на мировую величину» (с. 25). По-видимому, В. Гудковой невдомек, что в середине XIX в. «мировой величиной» являлась как раз Жорж Санд, а Достоевский был еще не очень известен (Попов просто лучше разбирался в истории литературы, чем его нынешняя «опекунша»). А вот сравнение Булгакова с Диккенсом: «Романист старой Англии позапрошлого века, рисующий вымышленные злоключения своих любимых героев, – и ироничный драматург века двадцатого, рассказавший о реальных событиях российской истории» (с. 54). Выходит, Булгаков обходился без вымысла – с чем мы В. Гудкову в очередной раз и поздравляем.
Можно было бы привести еще не один десяток примеров, свидетельствующих, что человек то ли не думал над тем, что пишет, то ли не удосужился прочитать написанное. Но отчего же мы всё про В. Гудкову! Ведь были и соучастники. Доля лавров за гудковские экзерсисы по заслугам принадлежит «ответственному редактору» (интересно: как в издательстве «Эксмо» понимают смысл этого словосочетания?). Хотелось бы выразить признательность и корректору (про пунктуацию можно говорить долго и специально), но его фамилию почему-то не указали. А был ли корректор? Может, корректора-то и не было?
Книжка сия выпорхнула в серии «Постскриптум», причем оказалась в ней чуть ли не первой ласточкой: как явствует из анонса, серия основана буквально в 2003 году. Свежак, в общем. Только вышел он (как бы это помягче выразиться) «второй свежести». При таком качестве продукта серийная эмблема-аббревиатура «PS» наводит на размышления в булгаковском духе: в одной из редакций «романа о дьяволе» Булгаков придумал для писательской организации название Всемиопис, а сокращенно – Опис.
Не улучшают дело и фотографии. Их много, но напечатаны они в основном весьма неважно. Не знаю, кто конкретно «недотянул» – издательство или типография, однако в других изданиях приходилось видеть те же фото в гораздо лучшем воспроизведении. Впрочем, и здесь, кажется, не обошлось без доброй волшебницы В. Гудковой. Допустим, в документе на фото № 34 явственно читается: «1. “Дни Турбиных”. 2. “Зойкина квартира”. 3. “Багровый остров”. 4. “Бег”», – а под фотографией подпись: «Справка о запрещении трех булгаковских пьес» (курсив мой. – Е.Я.). Узнаете знакомый почерк?
Лишь одно в многострадальной книжке показалось удачным: четыре листа в конце – абсолютно чистые; очень полезно для заметок. А еще лучше было бы издательству не мелочиться и оставить пустыми страниц шестьдесят, причем в начале книги – вместо бессмысленных и беспощадных писаний В. Гудковой.
Русский журнал. 2003. 19 декабря