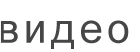В год 130-летия со дня рождения М. Пришвина (1873–1954) в серии «Жизнь замечательных людей» появилась книга о нем. Читатели, давно знакомые с изданиями этой серии, знают, что они выходят в однотипных обложках и имеют единую «биографическую» установку, но весьма сильно различаются по манере подачи материала и творческим установкам авторов. Причем своеобразие зависит не только от склонностей «наблюдателя» – того, кто пишет, – но и от личности «наблюдаемого» – того, о ком пишут. Думается, в случае с Пришвиным последнее обстоятельство как раз имело важное значение.
Хотя канва жизни героя обозначена достаточно отчетливо, книга никак не является «романизированной биографией». Написать «чистую» – сугубо «бытовую» – биографию Пришвина вообще неимоверно трудно и, пожалуй, вряд ли кому-нибудь когда-нибудь удастся – при том, что сам писатель тщательнейшим образом «зафиксировал» собственную жизнь в колоссальном по объему Дневнике, который вел чуть ли не полвека. Дневник этот крайне противоречив – но, как поясняет А. Варламов, «то, что пишется в Дневнике, не предназначено для свидетельств обвинения или защиты. <…> Для меня привлекательно в скрытном и таинственном человеке свойство, искупляющее все “оскорбляемые стороны” его существа: никогда он не уничтожил и не изменил ни одной строки своих записей, был предельно откровенен и безжалостен к себе, никогда не стремился представить себя в выгодном свете» (с. 290).
Взявшись за непростую работу, автор книги неизбежно должен был выбирать приемлемую стратегию. В принципе биограф, ощутивший желание рассказать о некоем писателе (или иной творческой личности), чаще всего идет одним из двух путей. Он может, допустим, как бы игнорировать творчество своего «подопечного», вынести его талант «за скобки» биографии и постараться представить «обычным» человеком – которого даже жизненные проблемы не «вырывают» из людского множества, а «вписывают» в него; нечто подобное осуществил 70 лет назад Михаил Булгаков в повести о Мольере. Или наоборот – жизнеописатель стремится логически связать «биографический» путь творца и линию его творчества (сыграв то ли на их «стилевом» подобии, то ли, напротив, на вопиющем диссонансе – это уж как повезет). Однако с Пришвиным ни то ни другое заведомо «не проходит»; вырисовывается некий третий вариант – причем как бы самодовлеющий и не оставляющий биографу выбора.
Дело именно в нависающей тяжеловесной громаде дневников. В сущности, Пришвин еще полвека назад сам написал свою биографию; вот только для ЖЗЛовского читателя она никак не подходит – ибо, во-первых, кто ж станет грызть многотомную «автобиографию», а во-вторых, она не только огромна, но и очень уж мудрёна, отвлеченно-философична, даже интимность выходит какая-то чересчур интеллектуальная. К тому же собственно биографических, «фактурных» подробностей в пришвинском Дневнике не так уж много… Словом, «неудобное» это чтение для простого человека.
Но «обычный» читатель всегда имеет привилегию – не читать; а вот пришвинский биограф никак не мог позволить себе такой поблажки и не обращать внимания на груду (гору!) дневниковых записей. Причем нужно было еще как-то уцелеть под этой лавиной – сохранив присутствие духа, «превзойти» материал, судить о нем (а тем самым и о личности писавшего) по возможности беспристрастно.
Итак (продолжаем наши умозрительные построения), автору книги о Пришвине по необходимости пришлось сводить и взаимопримирять три «канала информации»: во-первых, представить жизнь писателя «как она есть» – зафиксированную в неоспоримых фактах, документах и воспоминаниях; во-вторых, учесть то вúдение действительности, которое воплощено в пришвинском Дневнике; в-третьих, привлечь материал художественных произведений Пришвина – в которых, заметим, позиция автора вовсе не обязательно тождественна (а порой противоположна) «дневниковой» точке зрения. Например, говоря об «автобиографическом» романе Пришвина «Кащеева цепь» и о том, сколь причудливо отразились в нем реальные обстоятельства. А. Варламов пишет: «Расхождения существуют не только между романом и действительностью (что естественно), а также между романом и Дневником, но и между Дневником и действительностью и объясняются они отнюдь не ошибками памяти – вот почему и к пришвинскому Дневнику следует подходить с мерками художественного произведения. <…> И суть этого раздвоения, уникальность Пришвина как художника в том, что без его художественной прозы не может быть понят его Дневник, а без Дневника – проза, они идут бок о бок и лишь в совокупности своей позволяют нам судить об авторской позиции. Более того, в известном смысле не столько дневниковые записи являются лесами к его роману, сколько роман к Дневнику, равно как и все опубликованное у Пришвина в советские годы призвано объяснить неопубликованное» (с. 27, 30).
Герой книги предстает как типичная личность Серебряного века – сумевшая, однако, перешагнуть рамки сугубого эстетизма: «Пришвин был великим жизнетворцем и мистификатором, сделав себя главным героем своих произведений, он не просто описывал свою жизнь, но выстраивал ее как роман. <…> Пришвин был не одинок в стремлении превратить в свое “автобиографическое пространство” окружавший его мир и в этом смысле, подобно многим из окружавших его литераторов, был декадентен, эгоистичен и субъективен: он творил свою судьбу и был более всего этим мифотворчеством озабочен, но что-то спасало его прозу от крайнего субъективизма, что-то удавалось ему нащупать и выразить глубоко личное» (с. 45–46).
Судьба, мировоззрение и стиль Пришвина соотносятся в книге с творчеством ряда нескольких крупных писателей XX в. Это прежде всего В. Розанов – человек, оказавший на Пришвина огромное влияние, не только идейное, но и «стилистическое» (этим, в частности, объясняется своеобразие пришвинского Дневника). Много говорится о «перекличках» с И. Буниным (земляком и почти ровесником Пришвина). Важным «собеседником» предстает и А. Ремизов – который, между прочим, оценивал пришвинское творчество исключительно высоко, заявив: «Пришвин, во все невзгоды и беды не покидавший Россию, первый писатель в России». Есть, разумеется, и антагонисты: как те, с которыми не был согласен Пришвин (А. Блок, М. Горький), так и те, которые не соглашались с ним (например, А. Платонов).
Автор книги вполне справедливо критикует стереотипные (старорежимно-советские по происхождению) модели творческой динамики Пришвина («от модернизма к реализму» и т. п.); однако и сам А. Варламов мыслит биографию своего «подопечного» не как «просто жизнь», а именно как путь (реализацию Промысла, если угодно). И ненавязчиво, но отчетливо проводит мысль о том, что «целью» (или сверхцелью) этого пути было приобщение к религии – после долгих и достаточно мучительных попыток отыскать некую суррогатную веру. Говоря все о той же «Кащеевой цепи», автор книги пишет: «И пришвинский роман, и пришвинская жизнь – все это по большому счету история о том, как молодого человека в младенчестве напугали концом света, а потом в юности вовлекли в революцию, как он через это пострадал и как от революции отрекся, уходя в совершенно иные сферы» (с. 61). В конце концов «конец света» вроде бы перестал пугать – но самое удивительное, что позднее «становление» Пришвина как православного христианина сочеталось с явно углублявшейся в 1940–1950-х годах его «советскостью» – причем не конъюнктурной, а подлинной, глубинной. Впрочем, именно поэтому о «советскости» приходится говорить с большими оговорками: «В послевоенные годы Пришвин, как и официальная советская идеология, проповедовал грядущий коммунизм <…> Только любовь эта и понимание коммунизма были у писателя и Центрального Комитета партии слишком различными» (с. 459). И это далеко не единственный парадокс в жизни Пришвина (литератора вполне вроде бы «официального» и обласканного), на который обращает внимание биограф.
Глубоко «личным» отношением автора к герою объясняется, например, и тот факт, что в книге довольно скупо представлена история последней любви Пришвина: его жизнь (в течение почти пятнадцати лет) со второй женой, Валерией Дмитриевной. Она была человеком «пишущим» и сама немало рассказала об этом периоде, так что биограф, наверное, не хотел повторять ее суждений (а взять иной материал было неоткуда). Но, похоже, была и иная причина. Позднюю любовь писателя (а Пришвин женился во второй раз, когда ему было под семьдесят) А. Варламов всерьез расценивает как «прелестную» – в церковном значении этого слова: т. е. как «прельщение», иначе говоря – соблазн (по-простому – «бес в ребро»): «Пришвин удержался от того, чтобы броситься в хлыстовский чан в 1908 и 1918 годах, удержался в 1937-м, а вот в 1940-м – нашел смелости и бросился. Этим чаном оказалась женщина, которой он поклонялся, пусть не как хлыстовской богородице, но как некоему обожествляемому им посреднику, религиозному медиуму» (с. 429) – это как раз о Валерии Дмитриевне. Кстати, «проблема пола» в мировоззрении (да и в обыденной жизни) Пришвина – аспект особый, и ему в книге уделено немало места. Да и вообще, подобных «проклятых» вопросов, над которыми писатель размышлял в течение всей жизни, прослежено немало: «крестьянский», «национальный» («русский», «еврейский») и др.
Согласится читатель книги А. Варламова с его вúдением личности Пришвина или нет, но, так или иначе, свои суждения автор книги никогда не оставляет без подтверждения фактами или цитатами. Местами даже кажется, что масса «аргументов» избыточна и книга перегружена ими – словно это не издание ЖЗЛ, а научная монография. Честно говоря, было бы неплохо, если бы глубокая книга о «трудном» писателе (а Пришвин, бесспорно, таков) вышла более прозрачной и, так сказать, «воздушной»; но, как говорится, имеем то, что имеем.
Русский журнал. 2003. 29 августа