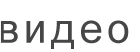Выход очередного тома дневников Михаила Пришвина – хороший «юбилейный» повод: в нынешнем году исполнилось 130 лет со дня рождения писателя. Нельзя сказать, что Пришвин – автор неизвестный. Скорее, наоборот: его имя знают чуть ли не все, поскольку, во-первых, многим в детстве читали рассказики «про животных», а во-вторых, его произведения как-никак входят в школьную программу – хотя и включаются в сугубо «вегетарианские» рубрики: «Ребятам о зверятах», «Люби живое», «О братьях наших меньших» и т. п. Читают школьники и более крупные произведения Пришвина – «Кладовую солнца» или «Корабельную чащу»; но до «совсем серьезных» его книг (вроде «Жень-шеня») дело, как правило, не доходит. Соответственно, в сознании большинства людей застрял образ благостного «детского» писателя-«натуралиста» – этакого бородатого деда в ватнике и невнятном головном уборе, сидящего где-нибудь на пне с цигаркой в зубах и блокнотом в руках, обычно в компании ружья и собаки. «Взрослого» Пришвина знают далеко не все, а про его дневники многие и не слыхали.
В пришвинских Собраниях сочинений (последнее вышло в середине 1980-х годов) дневникам отводился лишь один том – по существу, это был сборник небольших фрагментов, «надерганных» из огромного текста. Пришвин вел записи на протяжении пятидесяти лет, до последних дней жизни (умер он в 1954 г.), причем интенсивность записей с течением времени не сокращалась, а, пожалуй, даже нарастала. За несколько десятилетий с момента смерти Пришвина из огромного корпуса его дневников было напечатано процентов десять. Лишь с начала 1990-х годов началась работа над действительно полной публикацией. Разумеется, дело это трудоемкое и небыстрое: первый том увидел свет в 1991 г., и вот теперь, через двенадцать лет, выходит лишь пятый – с дневниками за 1926–1927 гг. Впереди, пожалуй, еще томов десять, не меньше (если не больше).
Каждый исторический период, отраженный в дневниках, по-своему интересен. Но середина 1920-х годов – еще и особое время в судьбе самого Пришвина, один из «переломных» пунктов его жизни. Именно тут появляется, так сказать, «зрелый» писатель: складывается достаточно определенное мировоззрение (на шестом десятке!), создается первый роман («Кащеева цепь»), возникает уникальный сплав «охотничьей» темы с философскими медитациями. К тому же в 1926 г. происходит весьма важное событие: семья Пришвина покупает дом в Сергиевом Посаде, где начинает жить постоянно; и в течение ряда лет сюжеты писателя будут географически связаны в основном с этими местами – северной частью Подмосковья.
Разумеется, многие страницы дневников отводятся «охотничьим» зарисовкам. Однако они постоянно соседствуют с глубокими размышлениями «обо всем»: «Многие думают, что они охотятся из-за любви к природе и считают себя поэтами в душе. Но если они поэты в душе, то почему же не стараются выразить свою душу словами, а вместо этого набивают порохом ствол и пугают поэтическую тишину? Пора бросить говорить этот вздор, я сотни раз в этом проверял себя: «поэтическое» только сопровождает охоту и вполне проявляется, если только цели своей достигнешь и убьешь желанную дичь. Если хотите, охота есть поэзия убийства, и чем проще человек, тем это убийство ближе к природе и милосердней, а у более сложных людей жажда убить прикрывается поэзией. Я это давно в себе определил и продолжаю охотиться, считая это убийство пустяками в сравнении с тем, что все люди проделывают друг с другом, удовлетворяя свою природную, неискоренимую жажду к убийству» (12.05.26).
Постоянно подчеркивая в человеческих поступках «природное» начало, Пришвин вовсе не стремится свести социальное поведение к биологическому. Ибо для него природа – понятие куда более широкое, нежели только «флора и фауна». Именно в середине 1920-х годов писатель осознаёт «фенологический» принцип своего творчества – его связь со сменой погоды, с годовым циклом, с движением вокруг Солнца. Как и все живое, человек в своих проявлениях соединен с космическими процессами и с сезонными метаморфозами. Пришвин не просто рисует людей «на фоне» природы – его герои существуют именно в природе, как ее звенья. Поэтому у него нет «пейзажей» и «фауны» в традиционном смысле: и растения, и животные, и люди предстают частью «космического» бытия – мировой Жизни; пытаясь определить собственное мировоззрение, Пришвин вспоминает о «пантеизме», «витализме» и т. п. философских категориях. Он размышляет о таком пути цивилизации, идя по которому она могла бы стать закономерным продолжением естественно-«природного» начала.
Писателя нередко представляют этаким «руссоистом», сбежавшим «в леса» от цивилизации или от длинных рук государства. Однако идея «естественного человека» вызывала у него лишь иронию: «Попробуй стать к электрической лампочке в личное отношение, настрадавшись от тьмы и копоти, – лампочка розой покажется!» (15.10.26) При кажущейся «опрощенности» Пришвин – человек вполне «западный» (между прочим, он окончил университет в Германии) и никуда от «Запада» – как, впрочем, и от «Востока» – не бежавший. Он трезво и спокойно размышлял о недостатках обеих крайностей, но не призывал к альтернативному выбору – точно так же как не «выбирал» между мужиком и горожанином, между животным и человеком и т. п.
Магистральный путь цивилизации Пришвин видит в том, чтобы «собрать человека»: дать возможность каждой отдельной личности осмыслить себя как «космическую» единицу, включить каждого индивидуума в мировую гармонию. Именно это писатель считает величайшей, главной задачей – решить которую пока, увы, не получилось и не получается: «Вот собирала человека церковь по идеальному образу Христа – не удалось, а «человек» революции оказался бесчеловечным, пустым символом. Церковный человек распялся при осуществлении на небесное и земное, революционный на бюрократа и мужика (рядового человека»)» (24.04.26). Заметим, кстати, что Пришвин вовсе не был атеистом, а тем более «богоборцем» – напротив, слушая по радио «антирелигиозные» беседы, записывал: «Две черты правительства мне совершенно непереносимы: 1) обязательное самохвальство, 2) обязательное безбожие» (18.10.26).
Дневники весьма разнообразны по стилю: в них есть пространные философские рассуждения, есть очерковые зарисовки, есть острые мемуарные фрагменты; нередки и быстрые афористичные записи, блестящие по точности формулировок: «Я считаю деревенской беднотой не тех, у кого нет лошади и коровы, а у кого порваны родственные связи: вот что делает связанным человека в деревне – родня!» (10.01.26); «Муж прекрасной женщины всегда комичен, потому что прекрасное этой женщины принадлежит всем и соблазняет…» (28.11.26).
Иногда изящное остроумие сопровождается нарочито грубоватыми интонациями: «Вот какие есть люди: встретил женщину, которая отказалась выйти за него, он берет в поле первую бабу, делает ее женой и потом всю жизнь, занимаясь охотой, путешествием и философией, старается в этих радостях скрыть свое горе» (21.02.26). Пришвин здесь имеет в виду себя; но конкретные бытовые неурядицы и семейные переживания в записях отражаются слабо – ворошить грязное белье он не любит. Зато из подобных коллизий вырастают его размышления об Эросе как одной из важнейших (если не самой важной) космических энергий, роднящей и обновляющей все живое.
В литературе XX в. после В. Розанова вряд ли есть другой писатель, который так много и напряженно размышлял бы о «проблеме пола», как Пришвин. Кстати, Розанов был его гимназическим учителем, и ученик о нем часто вспоминал – в том числе и в дневниках: «Я слышал, <…> что Розанов начал заниматься Христом, пораженный однажды разговором студентов, возле себя, какой-то студентик спросил: “А был ли у Христа «член»?” С тех пор Розанов всю жизнь и занимался этим, чтобы втянуть Христа в дело повседневной жизни» (01.01.27). Но это не значит, что Пришвин относится к философу (тогда уже покойному) иронически. Он постоянно общается с его дочерью, тоже жившей в Сергиевом Посаде (где провел последние годы жизни и сам Розанов); вместе с ней 18 мая 1927 г. составляет план участка кладбища, где рядом с могилой К. Леонтьева находится могила Розанова, – ибо понимает, что могилы эти вскоре могут быть уничтожены.
Развивает Пришвин и мысли Розанова об эросе как универсальном стимуле творчества. Творчество он мыслит как всеобщее природное состояние. «Творит» не только писатель или другой «деятель искусства»; творчество и жизнь – синонимы, и в этом смысле у подлинного художника нет никакого «отдельного» творчества, которое было бы как-то изолировано от жизни; потому деятельность писателя – это не процесс остраненного «писания», а «творческое поведение»: художественная форма должна быть «сцеплена» с личностью, становиться ее продолжением, «вырабатываться» автором «из самого себя». Для этого, между прочим, требуется недюжинная смелость, поскольку приходится говорить без «личного укрывательства себя самого в красивых словах». Основным предметом писательского творчества становится судьба творца – взятая не в «индивидуальном» варианте, а понятая в рамках всеобщей закономерности и подчиняющаяся не только «человеческим» законам, но и общему мировому круговороту: «Передо мной те же срезы ствола-человека, был такой писатель Михаил Пришвин. Я считаю годовые отложения его творчества, как он раскрыл себя» (12.02.26).
Чтобы в полной мере ощутить себя частицей вечно движущегося бытия, человеку недостаточно одного лишь рассудка – необходимо гармоничное «соучастие» всех составляющих его личности: «Самое характерное в моем мастерстве, это неутомимая потребность меняться так, что все мое достижение в области мастерства сводится как бы к навыку постоянно разрушать свои привычки с постоянным страхом замкнуться в формальных берегах и упустить жизнь. Вначале все это происходило, конечно, наивно, я просто бегал за материалами (за жизнью), а потом когда одумался, остановился, но беготню свою взял как бы методом писания <…> Все это объясняется, как я думаю, главным образом тем, что для писательства мне очень много приходилось бороться с рассудочностью своей, и так сильно, что просто физически бежать от нее, т. е. путешествовать» (31.10.27).
Впрочем, Пришвин не только философствует. В его дневнике множество замечаний, касающихся литературного быта 1920-х годов. Особенно много размышляет он о Горьком – в то время еще жившем в эмиграции в Италии. Читая в прессе славословия в адрес «буревестника революции», автор дневника прозорливо предчувствует, что «второе пришествие» (слова Пришвина) таит в себе большую опасность: «Если Горькому приведется пожить – его совсем одурачат» (24.06.27).
Тревожат и тени недавнего прошлого. Пришвин, входивший в литературу в самом начале XX в., хорошо знал художественную среду того времени: многие из классиков Серебряного века были его ровесниками или младшими современниками. Одним из тех, о ком он вспоминает наиболее часто, – Александр Блок, отношения с которым в послеоктябрьский период были весьма драматичными: Пришвин в свое время написал об авторе «Двенадцати» ехидный памфлет «Большевик из балаганчика», Блок же, как полагает автор дневника (09.02.27), изобразил его в карикатурном виде в поэме «Двенадцать» – в образе длинноволосого «писателя-витии», разглагольствующего о «погибшей России». Вспоминая умершего шесть лет назад Блока, Пришвин говорит о нем как о гениальном поэте, но жестоко обманувшемся (вернее, обманувшем самого себя) человеке: «Блок был робким хлыстом, колебавшимся у края бездны: броситься или подержаться. В Октябре он, наконец, решился и бросился в эту бездну, чтобы умереть и воскреснуть царем-христом. <…> Блок был таким же романтиком, как и я, как и другие “природные оптимисты”. Но мы разнимся с ним в отношении к “первородному греху”, к дьяволу мира, к злу вообще. Блок глуповат и слеп в отношении к дьяволу. Нужно же, в конце концов, понимать умному человеку, что и дьяволу необходимо жить, и договор с ним необходим. Но если ты хочешь договариваться, то обращайся к высшему сатане, который, в свою очередь, понимает, что романтику тоже надо существовать. Блок пошел в Октябре каким-то нечестным путем и хотел обмануть самого сатану, якшаясь с низшими. Революция шла честно, а Блок нечестно, и за то пострадал: вышло «с боку припеку» (21.09.26).
Вспоминая о Серебряном веке, Пришвин, хотя и издали, внимательно следит за его умиранием. Он пишет в дневнике о смерти и похоронах Ф. Сологуба, о самоубийствах А. Соболя и С. Есенина… И столь же пристально наблюдает за перипетиями «наверху» – в тех сферах, которые именует «заповедником власти»: «Там внутри партийной черты продолжают бушевать все политические страсти, а за чертой отдыхают от ужасов революции. Смутно доходит сюда, что в заповеднике неблагополучно, что там все накануне брани. Но обыватель уверен, что если и прольется кровь, то только там, внутри черты заповедника» (12.10.26). Тихие роковые предчувствия соседствуют с явными сарказмами: «Читал «Известия», с большим трудом одолел огромную статью Сталина и не нашел в ней ничего свободного, бездарен и честен, как чурбан» (31.07.27). Но и в «заповеднике власти» явственны признаки запустения. Например, показательна судьба Н. Семашко – старого большевика, который в свое время вовлек молодого Пришвина в марксистский кружок, а после Октябрьского переворота стал наркомом здравоохранения: «Слышал <…>, что Семашко живет вовсю, как все, и даже валоводится с актрисами: вот и конец революционного гнева и подвига! Все достигнуто, живи, пожинай и блаженствуй. Скоро, наверно, эти фигуры ожиревших большевиков вытравят из жизни все хорошее, даже воспоминания о святых революционерах» (26.06.26); «самые лучшие из революционеров кончили идею осуществления “той жизни” на земле увлечением балериною» (27.07.26).
Автор дневника горестно задумывается о судьбе интеллигенции, традиционно боровшейся против власти, а теперь вынужденной к конформизму: «интеллигент стал наемником того самого государства, которое он ненавидел, и государство стало хищническим образом эксплуатировать те его способности, которые он готовил для желанного мира» (03.07.26). Словом, на десятом году революции очертания недалекого будущего проступают все яснее. И, вероятно, не случайно Пришвин вклеивает в дневник вырезку из газеты: «Приказ. “Командовать парадом буду я. Ворошилов”» (02.11.27). Сегодня эта фраза известна любому – хотя в виду предощущавшихся Пришвиным событий вряд ли она казалась ему столь же комичной, как читателям Ильфа и Петрова…
Русский журнал. 2003. 21 мая