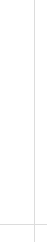
|
«ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАТОЧЕНО НА БЕССОЗНАТЕЛЬНОМ»
М. Булгаков в своём романе реализует не столько идею языка как травмы <…>
сколько показ травмы реальности через своеобразную
пластику и стилистику фразы.
Автором показана конфронтация человеческого мироощущения,
у которого «ум с сердцем не в ладу».
Не исключено, что в каком-нибудь пункте своих проекций прикладного характера мы сейчас вчитали нечто в текст романа.
Скоро поймете, откуда все это.
Уж сколько раз твердили миру, что не всякое чтение впрок, – но в сердце чтец всегда отыщет уголок. Дурная привычка читать о творчестве М. Булгакова все подряд снова подвела. Нарвался на такое вот издание: Харченко В.К., Григоренко С.Г. Континуальность пространства и времени в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012.
Сомнения закрались уже при взгляде на аннотацию: «В настоящей монографии лингвистика пространства и времени в известном романе М.А. Булгакова исследуется в свете языковых репрезентаций континуумов сначала в их обособленности, затем в режиме совокупного их феномена – пространственно-временного континуума. Разработаны методики, выводящие на анализ синтезированных объектов художественного текста» (стр. 2). Сразу захотелось побольше узнать об авторах. К счастью, кое-что сообщено на обороте обложки. В.К. Харченко – доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой русского языка и методики преподавания Белгородского государственного университета (БГУ). С.Г. Григоренко – кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Института современных технологий и экономики Кубанского государственного технологического университета (Краснодар). Оказалось также, что в 2010 году С.Г. Григоренко защитил в БГУ под руководством В.К. Харченко кандидатскую диссертацию «Языковая репрезентация пространственно-временного континуума в романе М. Булгакова “Мастер и Маргарита”». Похоже, из нее и родилась совместная книжка – работу аспиранта научный руководитель рассматривает как плод общего творчества.
Кстати, в биографии В.К. Харченко подобный случай не единственный. Например, написала под ее руководством Е.Ю. Коренева диссертацию «Язык фрустрирующей самоидентификации: на материале зарубежной и отечественной художественной литературы» – и тут же (М., 2007) вышла в свет монография В.К. Харченко и Е.Ю. Кореневой «Язык фрустрации: М. Лермонтов, М. Горький, О. Уайльд, С. Есин» (при таком наборе классиков мировой литературы закономерно, что книжка увидела свет в Литературном институте им. А.М. Горького). А защитила Е.М. Черникова в том же БГУ диссертацию «Имена собственные в жанре семейных родословных» – спустя год был издан труд В.К. Харченко и Е.М. Черниковой «Лингвогенеалогия: имя собственное в жанре семейных родословных» (М., 2010). Судя по всему, профессор Харченко по-матерински заботится об аспирантах даже после их «остепенения», поддерживая своим авторитетом и своей фамилией на обложках совместных опусов.
Но вернемся к книге В.К. Харченко и С.Г. Григоренко. Как явствует из заглавия, их цель – исследовать континуальность пространства и времени в булгаковском романе. Что ж, для оценки творческих успехов приме́ним традиционный «контент-анализ»; проще говоря, приведем свод цитат. Хочу предупредить, что соавторы используют всевозможные способы графического выделения – курсив, полужирный шрифт, прописные буквы. Орфография и пунктуация также авторские; притом в тексте двух лингвистов, доктора и кандидата наук, немало ошибок; про своеобразный стиль уж и не говорю. Сперва многое кажется странным; например, читаешь на первой странице, что для вступительных глав характерно «повествование at obo – от яйца» (5), и хочется задать кому-то какой-то вопрос... Но постепенно желание что-либо понять слабеет; чем ближе к концу, тем яснее осознаешь, что по-другому тут быть не может (хотя полный иммунитет у меня не сформировался до последней страницы). В общем, читайте – и многое станет ясно. Итак.
«Почему же современный предлог “в континууме” на порядок отстает и по времени возникновения, и, тем паче, по частотности от предлога “в пространстве”? Всё дело в устройстве нашего мозга, который именно “тикает”…» (7).
«Из мелких предварений к книге: сама тема монографии накладывает вето на использование семантики пространства как модной и элегантной метафоры» (8).
«Понимая опасность ещё не состоявшейся работы оказаться ожидаемой и неинтересной, мы будем стремиться по возможности всего только что сказанного избегать» (8).
«Исследуемый роман Михаила Булгакова и шире, и глубже приписывания к той или иной философской концепции, хотя многие из них хорошо ложатся на художественное поле романа и пластично иллюстрируются макро- и микроконтекстами» (9).
«Читатель хорошо различает экспериментальную прозу и поэзию (стихи Велемира Хлебникова, например), и роман не вызвал бы того долгоиграющего и сильнодействующего эффекта, будь он художественно экспериментален в своём замысле» (13).
«Известно, что пространство и время как основные, фундаментальные формы бытия материи в художественной речи могут получать не совсем адекватное, а то и вовсе не адекватное выражение и отражение» (13).
«…Реально отнаблюдать только дискретное и только континуальное пространство (время) вряд ли возможно» (21).
«…Первым толчком к замыслу образа сатаны <…> была музыка-опера Шарля Гуно» (40).
«…На образ Коровьева большое воздействие оказало произведение Ренессенса “Декамерон” Боккаччо. Воздействие его наиболее определённо сказывается на характере сэра Чапелетто, далёкого предка кривляки Коровьева» (41).
«Сказанное как нельзя лучше подходит и к булгаковской Москве, отсвеченной в романе “Мастер и Маргарита”» (41–42).
«Оппозиция “лирика – история” переосмысливается традиционный путь лириков» (43).
«Персонажи могут не иметь собственных имён. Такова участь персонажа, исполняющего роль мужа Маргариты» (44).
«В романе Булгакова вопрос ада как наказания получает особое, булгаковское решение» (45).
«Положительным героям Булгакова присуща выпуклость, яркость, некоторая отъединённость от внешнего мира» (45).
«В библейской <…> истории романа главными “галлюциногенными персонажами” становятся Иисус, Пилат и Воланд (Сатана)» (47).
«Пространственно-временные наслоения, их множественность, многоэтажность, многоярусность – способствуют временному вытягиванию по вертикали» (49).
«Мощное знающее начало Воланда, его осведомлённость в вопросах жизни и смерти воспроизводится за счёт волевой составляющей образа» (50).
«…Постижение художественного романа М.А. Булгакова непременно выводит на понимание важных концептов индивидуально-авторского сознания» (50).
«В отличие от “ершалаимского” пространства, представленного в подсветке строго вертикальных смыслов, пространство московских глав содержит изломанную, тревожно искривлённую, “скачущую” амплитуду отношений между горизонтальным и вертикальным измерениями мира» (53).
«Пространственно-временной континуум романа периодически “раскрывается” (расширяется, развёртывается), его модель метафорически можно представить “по принципу матрёшки”» (57).
«…Объективация пространства Города в романе “Мастер и Маргарита” происходит, во-первых, посредством ВОВЛЕЧЕНИЯ ПЕРСОНАЖЕЙ В ДЕЙСТВИЕ РАССКАЗА, которое осуществляется, например, с помощью УПОДОБЛЕНИЙ ХАРАКТЕРОВ И СИТУАЦИЙ. Пространство и время рассказа обретают признаки “негативных восприятий”. Жара на Патриарших и Солнце в Ершалаиме сами по себе не имеют значения, но обретают негативный смысл в оценке героев. Пилат, Бездомный и Берлиоз – персонажи, которые претерпевают от жары. Но жара не оказывает воздействия на Воланда (он в перчатках!) и его свиту… Далёк от выражения недовольства этим фактором и Иешуа» (57–58).
«Предметы, необходимые в быту: “ларь”, “велосипед без шин”, “зимняя шапка”, ненужная в мае, – создают впечатление “ненужности” и несообразности своего пространственного местонахождения. В кухне “на плите в полумраке стояло безмолвно около десятка потухших примусов”. Вещь, лишенная своего “акме” (назначения, целесообразности), обретает экзистенциальный смысл» (59).
«В романе “Мастер и Маргарита” действие происходит внутри и снаружи (около) домов, зданий, построек различного назначения» (64).
«Реалии пространства – это не только пространственные реалии жилища, окружения, пейзажа, но и сами предметы, наполняющие жизнь и быт. Так, слово “примус” с его подчёркнуто бытовой семантикой и коннотацией повседневности, даже профанности, вошло в афоризм: “Никого не трогаю, сижу починяю примус”. По нашему частотному словнику: “примус” – 14 употреблений, “примусом” – 3, “примусе”, “примуса”, “примусов”, “примусу”, “примусах” – по 1. Итого: 22 раза в романе с ярко выраженной, сюжетно выпуклой мистической парадигмой упоминается… примус» (66–67).
«…У М. Булгакова превалируют коннотации… странного, коннотации странных событий, “не разрешающих”, относить их ни к прерогативе “минуса”, ни к прерогативе “плюса”» (73).
«Метафорика пространства у Булгакова не геометрическая, а, скорее, сферическая, кинематографическая» (76).
«…К эпохе создания романа Михаил Булгаков подошёл уже с наработанным запасом мастерства передачи движения времени» (82).
«Исследователи выделяют систему общезначимых свойств времени, хорошо представленную в классических текстах и выразительно обыгрываемую Михаилом Булгаковым в романе “Мастер и Маргарита”» (83).
«Исследование показало справедливость идеи ожидаемого гомогенного, однородного времени для художественного текста и вместе с тем справедливость идеи разрывов однородного ряда» (84).
«Художественное время неравномерно распределено между главами романа» (85).
«Реалиями времени могут становиться и исчезающие предметы быта. Тот же примус, выше фиксируемый как реалия пространства дома, кухни, одновременно является и реалией времени 20-30-х годов прошлого века» (93).
«В силу НЕУМОЛИМОСТИ движения времени человеку приходится констатировать его ДЕСТРУКТИВНОСТЬ (что время делает с нами)» (94).
«Самое внутреннее время максимально интенсифицируется» (96). Поясню: «самое» – значит «само»; просто авторы так говорят (и, соответственно пишут).
«Описывая выше коннотации пространства и только что описанные коннотации времени с указанием на их неоднозначность, опору на перцепцию во избежание лобовых оценок, привлекают к анализу коннотацию странности, странного» (97). Да-да, вы не ошиблись – именно так.
«Лунное сопровождение усиливает мотив пути» (99).
«В образе луны метафоризируется вечность, не случайно слова с корнем лун- столь частотны в романе, но составленный нами частотник даёт широкий разброс однокорневых слов и словоформ, и потому общее количество употреблений каждого может быть воспринято как неубедительное. Однако дело не только в том, что эти употребления надо суммировать, но и в яркости самого образа, остающегося надолго в сознании даже при единичном упоминании» (100).
«ПЕРЦЕПТИВНАЯ ГЛАГОЛЬНАЯ ЛЕКСИКА. Такие глагольные лексемы в романе регулярно сочетаются тоже с фиксаторами странности, необычности, неожиданности» (110).
«Для Воланда неактуальны антропометричные измерения времени» (111).
«Хотелось бы завершать параграф о странности, стремительности и интенсивности движений в романе неожиданным синтаксическим пассажем, проекцией на роль безличных предложений» (112).
«Возникает художественный парадокс между синтаксисом безличности, связанным с фантазмами изображения, и лексикой яркого, ускоренного движения самих персонажей» (113).
«…Жёсткий социальный контраст отражён в деталях обуви собирательного, сквозного образа девушек на сеансе у Воланда» (116).
«В каждом ряду, что интересно, просматривается по нескольку представительств базовых для идиостиля писателя семантик слов» (117).
«…Начальные и заключительные фразы глав могут претендовать на приём исследования» (120).
«Регулярные повторы, появления / исчезновения героев (чаще исчезновения!) сопровождаются булгаковской ритмизированной эмфазой, что ещё больше способствует запечатлению текста романа, придаёт ему лиризм, романтизм, сказовость “в одном флаконе”» (121).
«События на сцене и все предметы обыденным сознанием воспринимаются как ненастоящие (таковыми оказываются деньги, абсолютный ценностный ориентир в реальном мире и одежда). Однако в силу безусловной истинности фразы, оброненной великим трагиком (“Вся жизнь – театр”), то, что происходит в следующих эпизодах романа, в доказательном порядке имеет непосредственную связь с произошедшим на сцене» (124). Оказывается, «трагик» – это автор трагедий; а уж о том, чтобы Шекспира цитировали правильно, и мечтать не приходится – какой тут Шекспир…
«Ключевым моментом в понимании временного антипода Москва – Ершалаим является и значительная возвышенность стиля “древних” глав» (125).
«Для исследуемого романа это одна из двух самых задействованных функций дейктика “тут”, как, впрочем, и других дейктиков. Ввод персонажей (а каждый роман писателя является “театральным романом”), сценический принцип единства места и времени налагают особые требования к интродукции» (129).
«Оба примера из романа явно натянуты (притянуты к декларируемой функции)» (129).
«…Натуральному пространству и времени совершенно чужды и неприменимы “очеловеченные” и антропоморфные параметры» (131).
«Автор экспериментирует со временем, расширяя вместительные возможности, границы реального времени, что представляет не только художественно-эстетический, но и философский эффект классической прозы, к которой можно отнести роман “Мастер и Маргарита”» (136).
«Дейктики – наиболее яркий и беспроигрышный путь исследования пространственно-временной континуальности, и мы не отказали себе в удовольствии много говорить именно о них. Но континуальность дейктиками не исчерпывается. Нужно еще “не забыть” помянуть роль глагольного предиката и временного дейксиса» (144).
«Опять же, отнюдь не дейктики, а “морфология”, грамматика времени и вида базисно обслуживает создаваемый автором пасьянс действий героев» (144).
«Имена собственные комически-иронического разлива <…> сочетаются с пятикратным авторским признанием в неведении лица» (157).
«Было предложено определение континуальности, проведён анализ смежных понятий, выработаны рабочие синонимы, рассмотрена проблема отграничения от “хронотопа”, показавшаяся несколько искусственной, поскольку спусковым крючком терминологического размежевания понятий стал всего лишь тот факт, что понятие хронотопа “занято литературоведением”» (165).
«И пространство, и время в их отдельности и в их слитности, единстве мы были вынуждены анализировались при их постоянном проецировании на так называемую “мистическую парадигму”» (173).
«…“Прикладным аспектом” исследования является дополнительный материал по динамике эмоционально-оценочной стороны языковой личности писателя, не позволяющей рисовать одно и то же лицо на разных этапах творческого пути» (177).
«Роман ирреален по содержанию и тем самым актуален в утверждении ценности утраченного реального, в постулировании идеи о том, что социальные эксперименты чреваты и опасны» (179).
«Талантливое произведение исключает насилие мысли <…> Суггестия в нём всегда хорошо упакована, запрятана в подтекст, а точнее ещё глубже, в подподтекст» (180).
Жаль, конечно, что приходится вырывать цитаты из контекста, – ибо неповторимым колоритом окрашена в общем-то вся книга: «текстопорождющие свойства пространственно-временного континуума» (115); «эти многие другие средства помогают мастерам слова воздействовать на изображение читателя» (30)»; «повести <…> Бестужева-Марлинского, ого, Пушкина, Баратынского» (43) и пр. и пр.
Столь же неряшливо относятся авторы к фактической информации. Привлекает, например, фраза: «Дивный эффект занимательности “Рассказов врача”, к числу которых и принадлежит “Пропавший глаз”…» (88). В другом месте цикл назван «Записками врача» (146) – однако ни то, ни другое название неправильны. Не обходится и без псевдоцитат вроде: «Не беспокойтесь, граждане, ассигнации – настоящие!» (59) – или: «Что может быть лучше власти кесаря!» (79). Местами авторы «хочут свою образованность показать» (вспомним «at obo») и употребляют слова, смысла которых не знают: «…онические метаморфозы, связанные с ситуацией сна» (26) – видимо, речь идет об онирическом. Забавное недоразумение возникает из-за того, что им неизвестно значение слова «трельяж» (декоративная решетка, увитая вьющимися растениями); цитату о Бездомном: «…привидение, пройдя в отверстие трельяжа, беспрепятственно вступило на веранду», – авторы комментируют так: «Любопытно, что привидение попадает в Грибоедов через зеркало» (74). Бредовость ситуации их не волнует.
Булгаковский текст «континуалисты» понимают и впрямь своеобразно – над их трактовками приходится надолго задумываться: «Отчетливо инфернальную окраску получает снежная символика уже в начале романа: …Турбины не заметили, как в крепком морозе наступил белый, мохнатый декабрь. О, ёлочный дед наш, сверкающий снегом и счастьем! Мама, светлая королева, где же ты?» (67) Где тут «инфернальная окраска» и при чем тут вообще «Белая гвардия» (см. название книги) – известно только авторам. Кстати, про первый булгаковский роман они и впрямь говорят немало, пытаясь сопоставить его с «Мастером и Маргаритой». Сопоставления, как водится, выходят странные: «Можно признать, что творчество Булгакова имеет завершенную “рамочную композицию”: в первом романе “Белая Гвардия” и последнем “закатном” романе “Мастер и Маргарита” много пространственно-временных и стилистических параллелей. <…> Эти же черты свойственны другим текстам автора, роману «Театральный роман”, повестям: “Собачье сердце”, “Роковые яйца”, “Дьяволиада”, пьесе “Бег”» (81–82). В общем, что́ «рамка», что́ «в рамке» – все едино.
Независимо от материала авторы сплошь и рядом изобретают велосипеды, глубокомысленно изрекая банальности. Например, процитировав фрагмент о финальном преображении летящих персонажей, сообщают: «Таким образом, получается, что Воланд пребывал в каком-то нарочито человеческом, не своём обличье, и после истечения определённого временного цикла он возвращает себе свой исходный вид, свою прежнюю (гномичную) сущность. То же происходит с представителями его свиты. Думается, образ Воланда тесно связан с ведущей оппозицией времени: время – вечность» (91). Ново и глубоко, ничего не скажешь! Или вот: «Для романа характерна точная локализованность событий, происходящих в рамках художественного пространства» (92). Но если вы думаете, что речь и впрямь идет о пространстве, – отнюдь; авторы имеют в виду время: они разъясняют, что действие якобы происходит в конкретные дни 1–5 мая 1929 года. Ну а что делать, например, с торгсинами, которых в 1929 году в помине не было (они открылись только в 1931-м)? Да и с многими другими деталями, которые показывают, что пресловутая «локализованность» не более чем выдумка, следствие поверхностного знакомства с булгаковедческой литературой.
«Континуалисты» демонстрируют попросту удручающее, наивно-реалистическое представление о структуре эстетического объекта. Например, они не различают дискурс и повествование, сплошь и рядом путаются в структуре нарратива, не отличают автора от повествователя и, кажется, даже сему от лексемы – то есть не владеют базовыми категориями, без которых поставленная задача никак не может быть решена. В частности, полагают, что художественное время в романе существует наряду с неким реальным, да еще борется с ним: «Временной отсчёт нужен не столько для того, чтобы точно, объективно передать течение реального времени, сколько для того, чтобы создать художественно-эстетический эффект выразительного временного зеркала. Автор отстаивает возможность другого, художественного членения временного потока» (93); «Авторское время в романе опережает читательское. Повествователь говорит о событиях, уже для него известных. <…> Автор даёт почувствовать читателю, что знает всю историю до конца, заставляет невольно доверять ему, подчиняться художественному замыслу» (96). Обратим внимание: автор или повествователь – один черт... «То, что художественное время в романе вмещается в четыре дня (эти же четыре дня представляют ершалаимские главы), разрушает привычные устойчивые представления о романе как художественном полотне, вмещающем достаточно длительный временной период из жизни героев» (96–97). Ну а как быть, например, с «дистанцией» между ершалаимским и московским сюжетами, равной, как известно, чуть ли не двум тысячам лет? Если для соавторов эта материя чересчур сложна, можно привести факт попроще: действие рассказа Мастера начинается примерно за год до момента рассказывания, а в году дней, как известно, отнюдь не четыре. Но на предыдущей странице звучал прямо противоположный тезис: «…По своей вместимости художественное время романа безгранично. Четыре дня Воланда в Москве насыщены событиями, которых хватило бы на несколько месяцев, а то и на год художественного повествования» (95). Кстати, отсюда следует, что между событиями и повествованием о событиях разницы нет…
А вот пример «лингвистического» умозаключения. Авторы пишут: «Глаголы несовершенного вида обозначают действия или состояния повторяющиеся». После этого (мягко говоря, сомнительного) тезиса приводится цитата из романа: «– Ты знаешь, – говорила Маргарита, – как раз когда ты заснул вчера ночью, я читала про тьму, которая пришла… / Все это хорошо и мило, – отвечал мастер. / Разговор этот шёл на закате…» Затем следует вывод: «Такие формы характеризуют художественные ситуации, в которых время останавливается или перестаёт существовать в сознании героев» (151). Где тут повторяющиеся действия или состояния и откуда следует, что в сознании героев перестало существовать время – думаю, даже авторам неизвестно.
Или другое заявление: «…ни у Мастера, ни у Маргариты ни портрет, ни одежда не прописаны» (167). А как воспринимать вот эти цитаты: «С балкона осторожно заглядывал в комнату бритый, темноволосый, с острым носом, встревоженными глазами и со свешивающимся на лоб клоком волос человек примерно лет тридцати восьми. <…> Тут увидел Иван, что пришедший одет в больничное. На нем было белье, туфли на босу ногу, на плечи наброшен бурый халат»; «Ощипанные по краям в ниточку пинцетом брови сгустились и черными ровными дугами легли над зазеленевшими глазами. Тонкая вертикальная морщинка, перерезавшая переносицу, появившаяся тогда, в октябре, когда пропал мастер, бесследно пропала. Исчезли и желтенькие тени у висков, и две чуть заметные сеточки у наружных углов глаз. Кожа щек налилась ровным розовым цветом, лоб стал бел и чист, а парикмахерская завивка волос развилась. / На тридцатилетнюю Маргариту из зеркала глядела от природы кудрявая черноволосая женщина лет двадцати, безудержно хохочущая, скалящая зубы»; «На Маргарите прямо на голое тело был накинут черный плащ, а мастер был в своем больничном белье». Это всё не портреты? не одежда? Похоже, авторы плохо ориентируются в тексте романа – или, например, не знают, что такое портрет.
Ну а когда доходишь до утверждения, что автор «Мастера и Маргариты» продолжает традиции… И. Бродского (165), – даже удивляться уже нет сил. Кстати, у булгаковского романа тоже кое-кто кое-чему научился: «Хронототипное и шире – стилистическое своеобразие текста было потом реминисцентно отражено в произведениях ряда известных писателей <…> СПРЕСОВАННОСТЬ времени романа в 3-5 дней встречается потом в известных романах А.И. Солженицына <…> ПРИСУТСТВИЕ автора в тексте <…> имеет место в исторических романах Валентина Пикуля <…> ТРАГЕДИЙНЫЙ КОМИЗМ СОВЕТСКОГО БЫТА <…> представлен в рассказах М. Зощенко, в романах И. Ильфа и Е. Петрова <…> ЭЛЕМЕНТЫ просторечного, “неграмотного” повествования получают развитие в романах Андрея Платонова». Неплохой наборчик. Каждый, кто хоть в общих чертах знаком с историей русской литературы XX века, читая эти… ну, скажем, измышления, только горько улыбнется. А безоглядных энтузиастов несет, как героя Ильфа и Петрова: «Даже простой перечень других имён и упоминание других стилистик ещё более подчёркивают, что в фокусе романа М. Булгакова соединилось множество полярных и ярких характеристик места и времени как в аспекте их дискретности, так и в аспекте их континуальности» (184).
Пора подводить итоги. В заключительной главе читаем: «В монографии представлена разработанная авторами методика исследования континуальности в художественном тексте, а именно отдельно исследовались континуальность пространства и континуальность времени по авторской схеме анализа контекстов романа: оппозиции, реалии, коннотации, метафоры» (165). Однако если называть вещи своими именами, сочинение В.К. Харченко и С.Г. Григоренко являет пример элементарного шарлатанства – под этим словом разумею пустопорожнее полуграмотное говорение, имитирующее научный дискурс и не приносящее ни малейшего результата (кроме возможности зачитывать цитаты вслух, чтобы позабавить окружающих). Книгу отличает не просто неряшливость, а полная бесцеремонность, элементарное неуважение к читателю.
В свое время В.К. Харченко выпустила словарь «Современного детского языка». В Интернете находим умиленную рецензию на него, завершающуюся следующим пассажем: «Изучив от и до “детский лепет”, Харченко сейчас сокрушается:
– Надо было так же внимательно изучать и речь взрослых. Особенно бабушек и дедушек, которые воспитывают детей. Это дало бы возможность сделать новые открытия в детском языке. Да и взрослые иногда могут что-то “отморозить” такое». Могут, могут, еще как могут…
|
|


