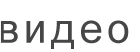1
Выход сериала «Мастер и Маргарита» (2005) оживил волну саморекламы на булгаковской почве. На прилавки выбросило несколько очередных изданий с претензией на сенсационность: авторы обещают окончательно «расшифровать» Булгакова и разоблачить все его «тайны». Особое внимание привлекла деятельность дьякона А. Кураева, изрядно проявившего себя на ниве «расшифровки». Незадолго до премьеры фильма была в очередной раз выпущена книга г-на Кураева под воинственным заглавием: «“Мастер и Маргарита”: за Христа или против?» Раньше она как-то не попадалась мне на глаза, но после нескольких аудиовизуальных явлений автора захотелось познакомиться с текстом. И любопытство было вознаграждено: давненько я не встречал столь яркого образчика агрессивной демагогии.Начинается как бы с личной, просто-таки интимной проблемы. Человек полюбил роман «Мастер и Маргарита», будучи бойцом идеологического фронта, адептом научного атеизма. С течением времени этот сатанист (так сам г-н Кураев именует атеистов [с. 43]) уверовал в Бога – да вот беда: литературные вкусы отчего-то остались прежними. И вопрошает он себя: «Имею ли я право продолжать с любовью относиться к булгаковской книге, несмотря на то, что за эти годы я стал ортодоксальным христианином? Может ли христианин не возмущаться этой книгой? Возможно ли такое прочтение булгаковского романа, при котором читатель не обязан восхищаться Воландом и Иешуа, при этом восхищаясь романом в целом? <…> Возможно ли такое прочтение романа, при котором автор был бы отделен от Воланда?» (с. 5). Вопросы по форме абсурдные, а по существу просто непорядочные. Ибо логика такая: раз грех непреодолимо сладок, нужно изыскать в нем элемент благодати, после чего грешить как ни в чем не бывало. Применительно к литературе это означает – использовать стандартную пропагандистскую методу: «вчитать» в текст заказанный смысл.
Дело-то привычное: у нас и Пушкин долгое время был «революционером» да «декабристом», и Гоголь «боролся с самодержавием»… Отчего не попытаться таким же способом «перетянуть» к себе сверхпопулярного писателя! И г-н Кураев провозглашает, что в булгаковском романе заключен «потаенный» код – который-де не всякому доступен: «Булгаков писал для своих – для “белых”. Шариковы могли воспринимать лишь поверхностную мишуру, карнавальную смехотворность его романа. Те, кто попримитивнее, возмущались этой сатирой; те, в чьей крови все же были гены “водолаза”, – радовались ей. А вот духовные родственники Булгакова – белая церковная интеллигенция – смогла прочитать его роман как произведение христианское» (с. 44).
В общем, внемлите, «беленькие», а на «черненьких» плевать: все равно ничего не понимают в Булгакове «шариковы от литературоведения» и «бездомные образованцы» – столь изящно г-н Кураев именует, в частности, филологов и школьных учителей (c. 66–67, 131 и др.). По правде сказать, столь наивный «расизм» автора книги и его болезненная гордыня, перетекающая в хамство, изрядно мешают чтению. Но, в конце концов, мне безразличны личные комплексы диакона – как и то, воспримут ли верующие булгаколюбы его книгу как индульгенцию на чтение «Мастера и Маргариты». Любопытно было другое: какими аргументами обоснует автор свою «концепцию» романа?
Оказалось, что г-н Кураев попросту пытается внедрить новый «булгаковский миф» и заново сочинить книжку под названием «Мастер и Маргарита», свободно компилируя куски черновиков 1928–1937 гг. и фрагменты последней редакции 1938–1940 гг. Объявлять «равноправными» черновики и авторизованную редакцию произведения – с филологической точки зрения примерно так же «грамотно», как утверждать равносильность канонических и апокрифических Евангелий или (чтоб было ясней) считать одинаково актуальными взгляды научного атеиста Кураева начала 1980-х годов и дьякона Кураева начала 2000-х. Но автор книги настаивает на своем праве свободно пользоваться черновиками наравне с окончательным текстом. Дело в том, сообщает он, что в 1930-х годах в СССР свирепствовала цензура (в 1920-х ее, видимо, не было) и «надо было многое в тексте спрятать от поверхностных читателей и цензоров… А потому обращение к ранним редакциям оказывается необходимым для понимания итогового текста» (с. 9). То есть, значит, в ранних черновиках «романа о дьяволе» (и в других произведениях 1920-х годов) Булгаков говорил свободно, а потом начал свои мысли «прятать» и «шифровать» – поскольку очень уж хотел, чтобы роман напечатали (с. 6–7).
Имела ли место «шифровка» – посмотрим, обратившись к проблеме, которую сам же г-н Кураев выводит на первый план: «Булгаков и вера» (с. 10). Заявляя тезис о якобы имевшем место «переломе» в мировоззрении писателя, автор книги в характерном стиле пишет: «Пока православие было государственной религией, интеллигенция ворчала на Церковь и скликала “буревестников революции”. Но когда стаи этих стервятников слетелись и явили свое хамское мурло, когда революционно-атеистическая инквизиция показала, что решимости, напора и требовательности у нее куда как больше, чем у старой церковно-монархической цензуры, тут уже и для интеллигенции настала пора “смены вех”» (с. 22).
Хамское мурло, конечно, в любую эпоху вещь труднопереносимая. Только хорошо бы не путать отношение к вере с отношением к церкви. Я понимаю, что для диакона Кураева это синонимы, – а для Булгакова? Оценка церкви и церковников у него вполне прозрачна – просто исследователи (в том числе автор этих строк) обычно не слишком акцентируют эту сторону дела по причинам этического характера. Но в ответ на беспардонную ложь г-на Кураева придется выразиться вполне определенно.
Рассуждая в духе классового подхода 1920-х годов, автор книги делает вывод: раз по происхождению Булгаков был «социально близким» – значит, и идейно неминуемо «свой». Ибо не мог же сын профессора Духовной академии относиться к церкви иначе как с глубокой приязнью (с. 10–11). Поэтому г-н Кураев внушает: Булгаков изо всех сил стремился «к Церкви. <…> Навстречу же Церковь простирала свою молитву» (c. 132). Единственной ошибкой писателя объявляется фельетон 1924 г. «Главполитбогослужение» (его герой – колоритный пьяница-дьякон); г-н Кураев даже выражает сожаление, что этот текст не был сожжен автором (с. 66). Однако тогда пришлось бы предать огню слишком многое. Ибо негативный образ священнослужителя проходит через все булгаковское творчество.
Вот очерк 1923 г. «Киев-город», а в нем – главка «Три церкви»: «Положение таково: старая ненавидит живую и автокефальную, живая – старую и автокефальную, автокефальная – старую и живую. / Чем кончится полезная деятельность всех трех церквей, сердца служителей которых питаются злобой, могу сказать с полнейшей уверенностью: массовым отпадением верующих от всех трех церквей и ввержением их в пучину самого голого атеизма. И повинны будут в этом не кто иные, как сами попы, дискредитировавшие в лоск не только самих себя, но самую идею веры». О том же заявляет «глас народа» из толпы в романе «Белая гвардия» (1924 г.): «Попам дай синенькую, так они дьяволу обедню отслужат». Еще более показателен сон Алексея Турбина, когда погибший однополчанин пересказывает ему свой разговор с Богом. На вопрос, почему он принимает в рай красных, которые в него не верят, Бог отвечает: «…мне от вашей веры ни прибыли, ни убытку. Один верит, другой не верит, а поступки у вас у всех одинаковые: сейчас друг друга за глотку…» Когда же собеседник ссылается на мнение «попов» – следует еще более резкая реакция: «Тут он и рукой махнул: “Ты мне, говорит, Жилин, про попов лучше и не напоминай. Ума не приложу, что мне с ними делать. То есть таких дураков, как ваши попы, нету других на свете. По секрету скажу тебе, Жилин, срам, а не попы”». Что, г-н Кураев всего этого не знает? Если не знает – зачем берется судить о том, в чем не разбирается? А если знает, то почему лжет, выдавая Булгакова за апологета церкви?
В пьесе «Бег» (1928, 1937 гг.) архиепископ Африкан первоначально предстает в виде «химика Махрова» (в списке действующих лиц он назван обоими именами). Химик – это слова «химичить», а фамилия заставляет вспомнить зачин фельетона «Багровый остров» (1924 г.): этот остров населен «красными эфиопами, белыми арапами и арапами неопределенной окраски, получившими от мореплавателей почему-то кличку – махровых». Отчего архиепископ аттестован «махровым химиком»? Причины те же: двоедушие, конформизм, отсутствие веры, формальное исполнение пастырских обязанностей.
«Химика» в архиепископы производят существа «подземные»: монахи в монастыре вылезают из подполья (где сидели, пока шел бой) и «облекают Африкана в мантию, подают ему жезл». Такие же инфернально-«подпольные» мотивы прозвучат в пьесе о Мольере «Кабала святош» (1930, премьера во МХАТе 16 февраля 1936 г.) – здесь Кабала Священного писания (вдумайтесь в название!) дислоцируется в церковном подвале. Как видим, Булгаков не делал разницы между духовенством православным и католическим (да и к служителям иных религий относился так же). Конечно, в образе Кабалы есть и метафора политической власти, однако характерно, что гнетущая идеология отождествлена именно с церковью. А архиепископ Шаррон столь же несимпатичен, как Африкан в «Беге». Недаром Шаррон является «в рогатой митре», крестит Мадлену «обратным, дьявольским крестом» и т.п. Так что ругательство Одноглазого: «Чертов поп!» – обретает слишком уж буквальный смысл.
«Кабала святош» целиком построена на противостоянии художника и церкви. Шаррон и иже с ним ненавидят Мольера прежде всего за то, что в своем «Тартюфе» тот сказал о них правду. И борются с писателем методами вполне «светскими»: подлогами, провокацией и доносами. Неудивительно, что Булгаков отождествлял себя с Мольером: эти методы он испытал на себе. Да и после его смерти «булгакоборцы» не утихают – одни прямо проклинают писателя, другие пытаются вывернуть его произведения наизнанку, прибегая к лжи и беззастенчивым подтасовкам. Кстати, г-н Кураев почему-то считает, что Булгаков мечтал опубликовать лишь «Мастера и Маргариту», а другие творения были ему якобы безразличны (с. 79). Может, и за постановку пьесы о Мольере драматург не боролся? Тогда рекомендую, например, книгу А. Смелянского «Михаил Булгаков в Художественном театре».
Служителям церкви Булгаков предъявляет тот же нравственный критерий, что и остальным людям. Этот критерий высказан открыто и неоднократно. Один из эпиграфов к «Белой гвардии» взят из Апокалипсиса: «И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». Слова псалма – «Коемуждо по делом его...» – делает эпиграфом к своему роману Сергей Максудов, герой «Записок покойника». И тот же принцип – «каждому по его вере» – становится основополагающим в «Мастере и Маргарите»; провозглашая его, Воланд в очередной раз цитирует Евангелие.
Кстати, в черновиках этого романа, к которым постоянно адресуется г-н Кураев, отношение к церкви не менее саркастическое. Вот сцена, когда торговавший «осетриной второй свежести» буфетчик, напуганный смертельным диагнозом, бежит в храм, где встречает священника отца Ивана, который стал… аукционистом. Аукцион организован тут же, в стенах церкви. Евангельская реминисценция очевидна: дух торгашества снова возобладал в храме. Беспринципность и двуличие священнослужителя, его неспособность к подвигу веры куда горше, чем когда речь идет о «простом» человеке. Делая вывод о неизменности негативной позиции писателя в отношении церкви, мы должны вместе с тем заключить, что проблема веры в его произведениях принадлежит к числу важнейших. Только, по Булгакову, вера не в декларациях, не в символах и не в культе – она сказывается в конкретных делах: это нравственный «вектор» повседневного жизнеповедения. Писатель постоянно, в разных ситуациях фиксирует конфликт между внешним «благочестием» и объективной аморальностью поступков. Причины компромисса с совестью могут быть различными: алчность, политическая конъюнктура, страх, усталость, самореклама – мало ли почему человек говорит (и чувствует) одно, а делает другое. Но, как бы то ни было, именно цельность личности писатель считает одним из основных нравственных качеств.
2
Так называемый «анализ» г-н Кураев открывает тем, что объявляет «ершалаимские» главы булгаковского романа «кощунственными» (с. 4) – поскольку они варьируют евангельский сюжет, лишая его сакральности. Строго говоря, дальше спорить уже не о чем. То, что роман Мастера противоречит Евангелию, литературоведы отмечали, еще когда г-н Кураев служил «научным атеистом»; да и сам автор «Мастера и Маргариты» устами Берлиоза акцентирует разницу. Если г-н Кураев как верующий видит во всяком отступлении от евангельского канона кощунство – это его право, и опровергать его убеждения попросту глупо. Но столь же нелепо такому человеку браться за разбор такого романа – ибо филологический анализ, по определению, невозможен без отстраненного, спокойного отношения к материалу. Всякое произведение искусства, извините за банальность, содержит элемент игры. Чтение, а тем более анализ предполагает уяснение «правил» этой игры (как раз на сей случай есть пословица: не лезь в чужой монастырь со своим уставом). И только постигнув внутреннюю логику произведения искусства, можно сказать, приемлешь ты воплощенную в нем концепцию мира или нет.Что же касается г-на Кураева, он исходит из самых примитивных посылок: раз булгаковский персонаж имеет внешние атрибуты «традиционного» книжно-оперного дьявола – значит, он именно сатана; раз изображенные во «вставном» тексте (романе о Понтии Пилате) события не соответствуют евангельскому канону – значит, замысел тут исключительно богохульный… Логика снежного кома заставляет выдумывать все новые и новые «тезисы» и «аргументы»; в итоге «Мастер и Маргарита» низводится до примитива, шитого белыми нитками. Чтобы дать общее представление, приведем ряд высказываний г-на Кураева о важнейших персонажах булгаковского романа и о книге в целом.
Интересного тут немало. Выясняется, например, что в «Мастере и Маргарите» Булгаков обратился к мотивам Священного Писания впервые: «ни рассказов, ни статей, ни фельетонов, в которых затрагивалась бы евангельская тематика, прежде у него не было» (с. 36). Смело сказано! Уж лет тридцать исследователи резонно пишут, что нет, пожалуй, ни одного булгаковского произведения, в котором данная тематика не затрагивалась бы. Вся фабула «Белой гвардии» спроецирована на Откровение Иоанна Богослова (недаром роман открывается и завершается цитатами из Апокалипсиса). В «Роковых яйцах» нарисована пародийная «Пасха». В «Собачьем сердце» варьируются мотивы Преображения и Воскресения. В «Записках юного врача» образ главного героя явно ориентирован на архетип Спасителя и «отмечен» знаком креста (красного). Ветхозаветные подтексты не менее активны, чем новозаветные: в «Беге» недаром цитируется книга Исход; заглавие «Адам и Ева» (как и эпиграф из книги Бытия) говорит само за себя… И т.д. и т.п.
Но г-н Кураев утверждает: не было! И, значит, в «Мастере и Маргарите» «не свой взгляд на Христа передал Булгаков. Тогда чей? Чью ненависть ко Христу он выразил? В чьих глазах Христос превращается в Иешуа?» (с. 36). Почему образ Иешуа есть проявление «ненависти ко Христу» – понять трудно; ну да ладно. «Ненависть», ясное дело, свойственна сатане, сиречь Воланду. Вот он-то и замутил роман о Понтии Пилате. «Булгаков построил книгу так, что советский читатель в “пилатовых главах” узнавал азы атеистической пропаганды. Но автором этой узнаваемой картины оказывался… сатана. <…> …взгляд сатаны на Христа вполне совпадает со взглядом на него атеистической государственной пропаганды» (с. 42–43).
Пропаганду эту среди москвичей осуществляют главным образом Бездомный и Берлиоз – «атеистический синедрион» (с. 85). Иван Бездомный, «антирелигиозный поэт, в своей поэме <…> столь злобно “очерчивает Иисуса”, что Он получается у него “совершенно живой”» (с. 28). Но ничего хорошего с Иваном не происходит – в итоге этот атеист-конъюнктурщик умудряется быстренько стать «красным профессором» (с. 81).
А Мастер – лишь мелкая сошка. Его «Воланд <…> использует <…> в качестве медиума» (с. 50), причем отыскивает в… Музее революции – ибо Мастер служит в музее, а, как заявляет не поморщившись автор книги, «в 30-е годы в Москве существовал только один музей – музей революции» (с. 147). Интересно: это г-н Кураев сам придумал или его кто-то обманул?
Далее. По наущению Воланда Маргарита подталкивает Мастера «к самоубийственному поступку – отдать рукопись в советские издательства» (с. 109). Непонятно только, зачем вообще заставлять Мастера ваять новый богохульный текст. Прекрасно можно было бы и готовыми обойтись – мало ли их наплодили «научные атеисты»! И потом: если роман Мастера (читай Воланда) впрямь вышел таким кощунственным – отчего ж его отверг «атеистический синедрион»? И чего тут «самоубийственного» – предложить такой роман в официальные издания? Пришел бы сатанист к сатанистам: так, мол, и так… Те бы его приняли с распростертыми объятиями. За что вообще пострадал Мастер в безбожном государстве? Всего этого г-н Кураев почему-то не объяснил (хотя при желании наверняка бы что-нибудь измыслил).
Маргарита, понятно, тоже хороша. Во-первых, она «далеко не девственница» (с. 107), во-вторых, вообще «блудливая ведьма» (с. 109) – причем столь развратная, что «со времен Баркова такой порнографии в русской литературе не было» (с. 108). Да уж, нашел автор книги порнографа – Михаила Булгакова… Не читал, видно, ни юнкерских поэм Лермонтова, ни Ремизова, ни Сологуба, ни Кузмина. Ну, не читал и не читал; но врать-то зачем! И не любила она вовсе Мастера, брезгливо заявляет г-н Кураев: «Да, я слышу всегдашнее возражение: постойте, сам же Булгаков сказал, что он пишет роман о “настоящей, верной, вечной любви”. Сказать он и в самом деле так сказал. Но – как? С какой интонацией? <…> Булгаков пошутил – а его шутку приняли всерьез» (с. 110–111).
По г-ну Кураеву, Маргарита исключительно эгоцентрична: «свой внутренний комфорт <…> ценит выше встречи с Мастером»; и «просит она не за него. За себя. За свой покой» (с. 104). Да и Фриде подает «мерзкий совет <…> Плюнуть на свой грех и забыть, а совесть затопить в шампанском – вот уровень нравственного мышления той ведьмы, в которой некоторые литературоведы видят чуть ли не воплощение “русской души”» (с. 97). Вообще, согласно г-ну Кураеву, Фрида и все булгаковские грешники стремятся попросту забыть о содеянном – скинуть, так сказать, моральный груз: «Разве она действительно изменилась? Где следы ее раскаяния?» (с. 96). Да, автору книги и впрямь не откажешь в прозорливости. Если следовать его логике, легко представить, как забывшая обо всем Фрида после бала пускается во все тяжкие, продолжая неуклонно душить прижитых ею детей…
Цитатами г-н Кураев вертит как хочет. Например, рисует образ Москвы: «В Москве изначально как бы два полюса духовной энергии. Светлый полюс – Храм Христа Спасителя. А напротив него – черный полюс: подвалы библиотеки, набитые каббалистическим чернокнижием» (с. 91). Вот так, оказывается, Булгаков относится к библиотеке! Но ведь те, кто читал роман, знают: никакого храма в нем нет (т.е. он не показан) – зато в финале на балюстраде Пашкова дома сидит Воланд, перед которым воткнута шпага: иными словами, на господствующей высоте над Москвой «сатана» почему-то поставил крест. Судя по всему, это реминисценция из «Фауста» Гете, где Валентин обороняется от Мефистофеля, держа шпагу как крест, за лезвие. Но г-н Кураев вещает: у Валентина-то крест, а у Воланда – только «тень от креста» (с. 92). Тень, стало быть, есть, а того, что ее отбрасывает, нет…
Или опять-таки ненавистная булгаковская героиня. Автор книги информирует: «Вот описание мертвой Маргариты: “ведьмино косоглазие и жестокость и буйность черт”» (с. 105). А теперь прочитаем то, что действительно написано в романе: «Даже в наступавших грозовых сумерках видно было, как исчезало ее временное косоглазие и жестокость и буйность черт. Лицо покойной посветлело и, наконец, смягчилось, и оскал ее стал не хищным, а просто женственным страдальческим оскалом». Не правда ли, есть некоторая разница?
Примерно так же обращается новоявленный «расшифровщик» с литературоведческими работами. Допустим, весьма строго высказывается по поводу вашего покорного слуги: «Бездомные образованцы (а русские интеллигенты без православия остаются бездомными в русской культуре) бросились восхвалять сатану как своего наконец-то найденного учителя: “Воланд – это олицетворенная в традиционном “дьявольском” облике абсолютная Истина”» (с. 67). Последняя фраза – как бы «цитата» из моей книги. Но дело в том, что у меня она имеет продолжение: «…абсолютная Истина (но не “абсолютная Правда”, которая быть таковой в принципе не может)». Увы, булгаковский роман куда глубже, чем способен представить г-н Кураев. Недаром и знаменитый евангельский вопрос звучит у Булгакова иначе. Пилат спрашивает: «Что такое истина?» – тем самым акцентируется категориальная сущность понятия истины и возможность ее познания человеком. Логика романа приводит к выводу, что объективный мир отражается в сознании человечества в виде множества точек зрения, моделей – каждая из которых поочередно объявляется «последней», но таковой не является. Именно в этом контексте важно разграничение понятий «истина» и «правда». Как писал Я. Голосовкер, «большинству кажется, что в истине сидит правда, хотя для истины нет ничего более чуждого, чем правда с ее моральной экзистенцией. Истина вне морали, как вне морали логика и математика. Но она никак не антиморальна. Истина – “бог знания” и обладает всеми его атрибутами». Вот именно эту «внеэтическую» истину, холодное космическое бытие воплощает булгаковский Воланд, в истории же человечества мир отражается в неисчислимом множестве «правд» – коллективных и индивидуальных «вер». Недаром в «Белой гвардии» Жилин рассказывает Алексею Турбину: Бог «на тебя самого похож».
Впрочем, в рецензии невозможно (да и не нужно) излагать то, чему посвящено несколько книг, написанных за 20 лет. Лучше понаблюдать, как «интерпретирует» прочитанное г-н Кураев. Например, в одной из моих работ говорилось, что в «медицинских» булгаковских сюжетах такие признаки, как разные размеры зрачков и боль в коленях, дают основание подозревать у персонажа сифилис. Г-н Кураев, как говорится, «услышал звон». И самостоятельно поставил Воланду «диагноз»: «Разноцветные зрачки (??! – Е. Я.) есть симптом далеко зашедшего сифилиса» (с. 99). Не умеет человек работать с цитатами – что ж поделаешь... Допустим, ополчается на тезис «рукописи не горят» – и заклинает: «Никогда нельзя с полным своим согласием и восторгом цитировать сатану – даже литературного!» (с. 63) Между тем фраза «поздравляю вас, гражданин, соврамши!» (с. 47) в собственных устах г-на Кураева почему-то не смущает. Может, это только Воланда нельзя цитировать, а присных его можно? Или только простым людям, «неграм» непозволительно, а «белой церковной интеллигенции» – в самый раз?
Какой же вывод? Ну, ясно какой. «Плохо кончается роман. Беспросветно» (с. 129). Полный, как говорится, соблазн, и все умерли. Видимо, за это г-н Кураев Булгакова и любит. Помнится, во времена, когда автор книги еще пребывал невинным младенцем, была песня с таким рефреном: «Если я тебя придумала, стань таким, как я хочу». Вот г-н Кураев и слепил «нового» Булгакова по собственному вкусу, да и других окормляет своими фантазиями.
Ну, а под занавес – фокус с небольшим разоблачением. Знаете, чего на самом деле хочет горячий поклонник романа «Мастер и Маргарита»? Чтобы Булгакова поменьше читали. В начале января 2006 г. г-н Кураев, выступая на радиостанции «Эхо Москвы», провозгласил «благородную» идею: «…принять обращение к Министерству образования с требованием выбросить этот роман из школьной программы <…> Чтобы не отбивать вкус и любовь к этой книге, во-первых, у детей, во-вторых, книга слишком сложная <…> …пока наши литераторши бедные, наши русички не научатся читать, до той поры лучше к этой книге не прикасаться» (http://echo.msk.ru/programs/box/41056/). Такова реальная цель, замаскированная человеколюбивыми соображениями. Как ни доказывал г-н Кураев на полутораста страницах, что роман Булгакова вполне «христианский» – ан, оказывается, детей к этой книге лучше не подпускать. И вся любовь.
Книжное обозрение. 2006. № 19