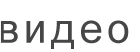Для Булгакова с самого начала творчества Маяковский оказался одним из главных ориентиров литературной и общекультурной ситуации, одним из знаков эпохи. Но и для Маяковского последние пять лет жизни прошли в значительной мере «под знаком» Булгакова, даже «с оглядкой» на него. А при ближайшем рассмотрении общих черт оказывается куда больше. «Сходство между ними превышает тот уровень, который может быть выведен из простого факта принадлежности к одной эпохе. Это – очень далеко заходящее сходство, свойственное антиподам или, точнее, зеркальным двойникам. <...> Сходство при различии, близость при отдаленности – идеальное условие для того, чтобы у противостоящих художников возникло соперничество за «монополию» на жанр, за обладание “истинным жанром” и самой “художественной истиной” <...> Когда два художника ощущают только общность, то спорить им друг с другом не о чем; когда они ощущают только противостояние, спорить не на чем – нет общего языка для ведения спора. Здесь же, в случае Булгаков – Маяковский, есть все необходимые предпосылки – платформа и стимулы – для возникновения диалога, и такой диалог между ними действительно возник»1.
По словечку героя «Бани» Победоносикова, Маяковский и Булгаков оказались «союбилейщиками». Один отсчитывал начало творческого пути с 1909 г., когда в шестнадцатилетнем возрасте оказался в Бутырках и исписал там «ревплаксивыми» стишками целую тетрадь, которую надзиратели, к счастью, при выходе отобрали. Другой в автобиографии 1924 г. пояснил, что писать начал следующим образом: «Как-то ночью, в 1919 году, глухой осенью, едучи в расхлябанном поезде, при свете свечечки, вставленной в бутылку из-под керосина, написал первый маленький рассказ». Правда, Булгаков не указал, что служил в то время в белой армии, а «маленький рассказ» был на самом деле публицистической статьей «Грядущие перспективы», автор которой выражал уверенность в скором освобождении России от большевиков.
Как видим, «стартовые условия» оказались весьма различны. Учтем также, что Булгаков успел к 1919 г. поработать врачом, а Маяковский университетов не кончал: учился несколько лет в гимназии – хотя и уверял в поэме «Люблю», что «обучался азбуке с вывесок».
В тот год, когда Булгаков написал свой «первый маленький рассказ», Маяковский уже выпустил первую «юбилейную» книжку – «Все сочиненное Владимиром Маяковским: 1909–1919». Но сроки им судьба отпустила одинаковые – по двадцать лет...
И еще одно совпадение: оба не москвичи по рождению, но для обоих Москва стала второй родиной. Когда автобиографический герой булгаковских «Записок на манжетах» осенью 1921 г. приезжает в Москву, ему в первые же минуты бросается в глаза футуристическая аббревиатура ДЮВЛАМ – «двенадцатилетний юбилей Владимира Маяковского». И перед внутренним взором рассказчика предстает портрет юбиляра. Только не следует думать, что рассказ Булгакова о своих ощущениях документально точен. Вторая часть «Записок», где речь идет о приезде героя в Москву, опубликована почти через два года после приезда – в середине 1923-го. Так что «Маяковский» здесь – художественный образ: нарочитый, откровенно полемический, вызывающе антифутуристический. Основным лозунгом футуристов буквально с первых недель их самоутверждения была яростная, чуть ли не физическая борьба с мещанством и мещанами. В «Записках на манжетах» «Маяковский» – именно мещанин, причем утрированный, лубочный; такого, пожалуй, сам поэт мог бы изобразить на своих «ростинских» плакатах. Помните – «О дряни»: «И вылезло из-за спины РСФСР мурло мещанина». Вот он – портрет юбиляра «Маяковского»:
«Никогда его не видел, но знаю... знаю. Он лет сорока, очень маленького роста, лысенький, в очках, очень подвижной. Коротенькие подвернутые брючки. Служит. Не курит. У него большая квартира, с портьерами, уплотненная присяжным поверенным, который теперь не присяжный поверенный, а комендант казенного здания. Живет в кабинете с нетопящимся камином. Любит сливочное масло, стихи и порядок в комнате. Любимый автор – Конан Дойль. Любимая опера – “Евгений Онегин”. Сам готовит себе на примусе котлеты. Терпеть не может – поверенного – коменданта и мечтает, что выселит его рано или поздно, женится и славно заживет в пяти комнатах».
Главное в этом издевательском портрете – полная погруженность «Маяковского» в быт; причем не в силу необходимости (гражданская война окончилась лишь недавно), а потому, что такова сущность его натуры. Булгаковскую едкость можно оценить в полной мере, если вспомнить, сколь резко противопоставляли футуристы «быт» и «бытие». Ведь именно в конце 1922 – начале 1923 г., за несколько месяцев перед тем, как увидела свет вторая часть «Записок на манжетах», разразился мучительный кризис в отношениях между Маяковским и Л. Брик, получивший отражение в поэме «Про это». Л. Брик воспоминала об этом периоде: «Привыкли друг к другу, к тому, что обуты-одеты, живем в тепле. То и дело чай пьем. Мы тонем в быту. Мы на дне»2. А Маяковский в добровольном двух месячном одиночном заключении на Лубянке отчаянно писал ей: «Я, год выкидывавший из комнаты даже матрац, даже скамейку, <...> – как я смел быть так изъеден квартирной молью. <...> Быта никакого, никогда, ни в чем не будет! Ничего старого бытового не пролезет. За это я ручаюсь твердо».
Мог ли Булгаков сочувствовать «этому»? Не имея ни нормального жилья, ни нормального заработка? Вряд ли. Его тяга к устоявшемуся быту, к дому (к Дому!) была неистребима. Вспомним хотя бы «Белую гвардию», где любовь к «пыльному уюту», пожалуй, сильнее, чем ирония насчет «кремовых штор».
Скажем больше: как для футуристов «быт» и «бытие», так и для Булгакова «дом» – категории социально-философская и этические. «Домашность» в булгаковском мироощущении – необходимое условие нормальной социальности человека. Бездомен, безбытен – люмпен, маргинал, уличный пес. Поэтому маленький фрагмент «Записок на манжетах» оказался насыщен подтекстом и явился пробным шаром в долгом споре.
Комментируя «Записки», Л. Лосев обратил внимание на значительное совпадение булгаковского образа «Маяковского» и фотомонтажа А. Родченко в первом издании «Про это»: здесь рядом с Маяковским поставлен как «бы его «двойник» – мещанин, внешне действительно напоминающий булгаковский рисунок. Издание поэмы «Про это» вышло в марте 1923 г.; вторая часть «Записок» опубликована несколько позже – в пятом номере журнала «Россия» за 1923 г.3 Так что, теоретически, фотомонтаж Родченко вполне мог повлиять на булгаковский «портрет» Маяковского.
Помимо стихов, лозунгов и плакатов Маяковского, на которые, скорее всего обращал (вернее, не мог не обращать) внимание Булгаков, в 1921 г. триумфально заявила о себе комедия «Мистерия-буфф» – благодаря, в частности, Вс. Мейерхольду, чьих отношений с Булгаковым нам тоже придется довольно подробно коснуться. Спектакль «Мистерия-буфф» в Театре им. Вс. Мейерхольда являл синтез театрального и циркового представлений. «Идея соединения театра и цирка <…> была одной из главных идей Мейерхольда, полагавшего, что “циркизация” театра, привнесение в него элементов акробатики, клоунады и аттракциона соответствует его изначальной сути площадного, “балаганного” зрелища»4. Маяковский, разделявший эти идеи, провел принцип «циркизации» во всех пьесах; недаром, например, подзаголовок «Бани» – «Драма в шести действиях с цирком и фейерверком». Но важно подчеркнуть, что в творчестве Булгакова также обнаруживается тенденция к соединению «мистериально»-высокого, «сакрального» и «шутовского», «карнавального» начал. «Едва ли не каждая булгаковская вещь – своего рода мистерия-буфф»5.
Сходство, действительно, есть, но оно не абсолютно, и подчеркнуть разницу – значит обнаружить расхождения в мироощущении двух писателей; эти расхождения лежат гораздо глубже, чем политические взгляды.
В творчестве Маяковского отношения между «мистериальным» и «буффонадным» не синтез: две «субстанции» не образуют здесь неразделимой «смеси». Мирочувствование поэта в основном дихотомично: «высокое» и «низкое» взаимопроникают, но это два противостоящих начала, а не стороны единого и нерасчленимого мира. Ведь не случайно в «Мистерии-буфф» между «темным» прошлым и «светлым» будущим – непроходимая граница: никакое «чистилище» не поможет «чистым» достичь степени истинной классовой чистоты «нечистых». Поэтому метафоры «конца света», «обетованной земли» и им подобные библейские символы, несмотря на воинствующий атеизм Маяковского, имеют скорее прямое, нежели переносное, значение. Идея «земного рая» особенно близка поэту. Причем главными ее атрибутами являются не всеобщая сытость, не тотальная социальная справедливость; коммунизм для Маяковского прежде всего – достигнутое физическое бессмертие «новых людей» и «прекращение» истории.
В 1930 г. в статье-некрологе Р. Якобсон вспомнит, как десять лет назад рассказывал Маяковскому о теории относительности Эйнштейна, о возможности двигаться назад по оси времени. «А ты не думаешь, – спросил он (Маяковский. – Е. Я.) вдруг, – что так будет завоевано бессмертие? <...> А я совершенно убежден, что смерти не будет. Будут воскрешать мертвых»6. Недаром в поэме «Про это» после проклятий «быту» звучит мольба о бессмертии – когда-нибудь в отдаленном будущем. В «Прошении», адресованном «химику» XXX века, многократно, как заклинание, повторяется: «Воскреси!..»
В 1922 г. Маяковский даже пытался воплотить образ вселенского «коммунизма» не в стиле политического плаката-лубка, а в духе хлебниковской космической утопии; подобный набросок создан в неоконченной поэме «Пятый Интернационал»:
- Тишь.
И лишь
просторы,
мирам открытые странствовать.
Подо мной,
надо мной
и насквозь светящее реянье.
Вот уж действительно
что называется – пространство!
Хоть руками щупай в 22 измерения.
Нет краев пространству,
времени конца нет.
Так рисуют футуристы едущее или идущее:
неизвестно,
что вещь,
что след,
сразу видишь вещь из прошедшего в грядущее.
Ничего не режут времени ножи.
Планеты сшибутся,
и видишь –
разом
разворачивается новая жизнь
грядущих планет туманом-газом.
Но как поэта в начале 1920-х годов поразили идеи Эйнштейна, так и Булгакова впечатлила вышедшая в 1922 г. книга П. Флоренского «Мнимости в геометрии» и, можно сказать, повлияла на все его творчество. Разумеется, Булгаков, будучи естественником, относился к научным теориям не столь суеверно, как Маяковский, и не питал безоглядных надежд на «чудотворное будущее» (Р. Якобсон), но в том, что человеческое существование не ограничивается «наличной» земной реальностью, он, кажется, не сомневался.
Тема бессмертия и запредельного покоя для Булгакова тоже была озвучена стихами. Сам он стихов не писал (почти никогда, но об этом позже), однако его чувства прекрасно выражают строки стихотворения В. Жуковского «Певец во стане русских воинов», которые можно считать лейтмотивом булгаковского творчества:
- Бессмертье, тихий, светлый брег;
Наш путь – к нему стремленье.
Покойся, кто свой кончил бег!
Вы, странники, терпенье!
Эти стихи Булгаков записывает в дневник в ночь 23/24 декабря 1924 г.; в 1928 г. они станут эпиграфом к пьесе «Бег», позже отзовутся в «Мастере и Маргарите». В булгаковском мироощущении нынешнее и будущее, временное и вечное сосуществуют в диалектическом взаимодействии; бытие может иметь множество воплощений, в том числе полуфантастических и фантастических, но все это – грани одного целого, в котором высокое и низкое трагикомически слиты и отфильтровать одно от другого не удастся.
По этой причине довольно трудно говорить о некоей определенной и стабильной политической позиции Булгакова. Пафос грандиозности и всеобщности, которому отдал дань Маяковский, Булгакову претил: в толстовском духе, он с недоверием относился к любому целенаправленному воздействию на историю – недаром гражданскую войну рисовал в «семейном» аспекте. Булгакова обвиняли не только в «белогвардейщине», но и в мещанстве. Но что он мог всерьез противопоставить кровавой несуразице окружающей жизни? Реставрацию монархии с последующей всероссийской поркой? Интервенцию с принудительной европеизацией России? Идея широкомасштабной социальной «хирургии» Булгакову чужда в принципе – ему свойственно предпочитать массе личность, а взамен всеобщего и грандиозного обращать внимание прежде всего на «простое» и насущно необходимое. Это и называлось в 1920-х годах мещанством.
Идеологическая позиция Маяковского-сатирика определенна и может быть лаконично сформулирована. Поэтому его смех – разящий, уничтожающий («оружия любимейшего род»). Но «амбивалентная природа булгаковского смеха изначально исключает чисто «обличительный», однозначно-отрицающий подход к явлениям современности»7. Тот идеал, с позиций которого и во имя которого борется Маяковский, не подлежит критике, на него не ложится и тени сомнения. Личная слабость, несоответствие идеалу – дело для Маяковского настолько стыдное, что он редко позволяет себе посмеяться над собою. Булгаков, напротив, в собственных глазах часто выглядит человеком слабым, колеблющимся, иногда просто беспринципным. Твердость убеждений вызывает его уважение, но сам он таким качеством не обладает; отсюда постоянная в булгаковских произведениях дистанция между «светом» и «покоем»: истинный «свет» – удел терпеливых, аскетичных «странников», каковых абсолютное меньшинство; «покой» же заманчив, соблазнителен и улавливает в свои сети многих автобиографических героев Булгакова.
Будущее и прошлое в структуре булгаковского мира лежат в едином, «гомогенном» потоке бытия; будущее не лазейка, куда можно на худой конец ускользнуть, если станет невмоготу. Человеческий удел не фатален, и судьба не определяется, скажем, происхождением или социальным положением. Все зависит от убеждений и поступков человека: идея воздаяния «каждому по делам его» звучит в творчестве Булгакова от первого романа до последнего.
Революционность Маяковского связана с подсознательным стремлением к «другому» миру, с мечтой об обновлении «обветшалого» бытия. «Нереволюционность» же Булгакова сродни стремлению врача доверяться природе, прежде всего «не навредить». Это касается, конечно, не только политики, но и, например, проблемы традиций и новаторства в сфере искусства. Не случайно же Булгаков сумел гениально творить чуть ли не из «готового», «чужого» – и потому с позиций леворадикальной эстетики «будетлян» выглядел унылым традиционалистом и консерватором «акстарья» («академического старья»). Но эстетические позиции Булгакова тоже вполне определенны. Скажем, МХАТ – театр Станиславского и Немировича-Данченко – он приемлет и отдаст ему 10 лет жизни, а с бывшим мхатовцем, учеником Станиславского и друга Маяковского, Всеволодом Мейерхольдом не пожелает иметь творческих отношений и никогда не даст ему ни одной своей пьесы.
Кстати, в «Записках на манжетах» первое слово, которое слышит рассказчик, попав в грандиозное здание Главполитпросвета, – это слово «Мейерхольд». Вскоре он заметит: «Мейерхольд феноменально популярен в этом здании, но самого его нет». Булгаков, работавший в 1921 г. в ЛИТО Главполитпросвета, вероятно, знал по рассказам очевидцев о деятельности Мейерхольда, который в 1918 г. в течение нескольких месяцев возглавлял в этом же учреждении Театральный отдел (ТЕО): «Неистовый театральный комиссар вознамерился одним ударом покончить со “старым” театром. У двери в кабинет зав. ТЕО <...> стояли на часах вооруженные до зубов матросы. Зав. ТЕО ходил в полувоенном костюме, в солдатской шинели и тоже был вооружен маузером в длинной деревянной кобуре, по-видимому, для устрашения и подавления противников нового в искусстве»8.
У нас нет свидетельств о том, как реагировал Булгаков на спектакль «Мистерия-буфф» в Театре Мейерхольда. Но судить о том, до какой степени писатель не переносил эстетику «левого» искусства, можно по фрагменту булгаковского очерка 1922 г. «Столица в блокноте», который носит название «Биомеханическая глава». Между прочим, изобразив в «Записках на манжетах» Маяковского мещанином, Булгаков теперь сам надевает маску субъекта весьма приземленного, не очень продвинутого в эстетическом отношении и судящего об искусстве с позиций здравого смысла. Еще любопытнее, что аргументация этого субъекта против «мейерхольдовщины» удивительно напоминает ленинские высказывания против футуризма вообще и против Маяковского в частности. Слова: «Я – зритель. Театр для меня. Желаю ходить в понятный театр» – звучат почти как цитата из Ленина: «Искусство принадлежит народу. <...> Оно должно быть понятно этим массам...»
Надев маску авторитетного «простака», Булгаков упрекает «синих биомехаников» в том, что они столь же бездарно кривляются, сколь усердно учились некогда «произносить слащавые монологи»; по-видимому, стрела прямо в Мейерхольда – выходца из Художественного театра.
Излишне говорить, что «мейерхольдовец» Маяковский, в свою очередь, не питал горячей любви к МХАТу. Взять хотя бы пролог «Мистерии-буфф»:
- Для других театров
представлять не важно:
для них
сцена –
замочная скважина.
Сиди, мол, смирно,
прямо или наискосочек
и смотри чужой жизни кусочек.
Сидишь и видишь –
гнусят на диване
тети Мани
да дяди Вани.
Конечно, это про «театр Чехова». Неприязнь к МХАТу поэт пронесет через все 1920-е годы. Знал бы он только, какую странную и грустную встречу с этим театром приготовит ему судьба...
Впрочем, между Маяковским и Булгаковым в начале 1920-х годов можно увидеть не только резкую разницу, но и черты сходства. Ибо общими были объекты сатиры. Вот, к примеру, стихотворение Маяковского начала 1922 г. «Бюрократиада»:
- Высунув языки,
разинув рты,
носятся нэписты
в рьяни,
в яри...
А посередине
высятся
недоступные форты,
серые крепости советских канцелярий.
Ощущение зажатости между «нэпистом» и бюрократом пронизывает и булгаковский фельетон 1922 г. «Похождения Чичикова». Интересно, что в обоих случаях предлагаются примерно одинаковые рецепты – по принципу «дешево и сердито». Маяковский:
- Но, по-моему,
надо
без всякой хитрости
взять за трубу канцелярию
и вытрясти.
Булгаков:
- «Набрал воздуху и гаркнул так, что дрогнули стекла:
– Подать мне сюда Ляпкина-Тяпкина! Срочно! По телефону подать!
– Так что подать невозможно... Телефон сломался.
– А-а! Сломался! Провод оборвался? Так чтоб он даром не мотался, повесить на нем того, кто докладывает!!»
Примечательна и перекличка названий: «Дьяволиада» (1923) – у Булгакова, «Бюрократиада» (1922) – у Маяковского. И там и тут – сатанинская власть бумаги, инфернальный гротеск:
- Черт,
сын его
или евонный брат,
расшутившийся сверх всяких мер,
раздул машину в миллиарды крат
и расставил по всей РСФСР.
С ночи становятся людей тени.
Тяжелая – подъемный мост! –
скрипит,
глотает дверь учреждений
извивающийся человечий хвост.
Этой вариации на тему блоковской «Фабрики» вполне соответствует по духу булгаковская канцелярская фантасмагория. Перекликается «Дьяволиада» и с «Прозаседавшимися», причем в обоих случаях в число объектов сатиры попадает Главполитпросвет.
Примерно в то же время, что «Дьяволиада», Булгаков написал очерк «Бенефис лорда Керзона», где создал еще один портрет Маяковского. Очерк этот не сатирический, и портрет отнюдь не похож на тот, что был в «Записках на манжетах»; изображается демонстрация у Моссовета, вызванная убийством Воровского и ультиматумом Керзона:
- «На балкончике под обелиском Свободы9 Маяковский, раскрыв свой чудовищный квадратный рот, бухал над толпой надтреснутым басом:
...британ-ский лев вой! Ле-вой! Ле-вой!
– Ле-вой! Ле-вой! – отвечала ему толпа. Из Столешникова выкатывалась новая лента, загибала к обелиску. Толпа звала Маяковского. Он вырос опять на балкончике и загремел:
– Вы слышали, товарищи, звон, да не знаете, кто такой лорд Керзон!
И стал объяснять:
– Из-под маски вежливого лорда глядит клыкастое лицо!! Когда убивали бакинских коммунистов...
Опять загрохотали трубы у Совета. Тонкие женские голоса пели:
Вставай, проклятьем заклейменный!
Маяковский все выбрасывал тяжелые, как булыжники, слова, у подножия памятника кипело, как в муравейнике, и чей-то голос с балкона прорезал шум:
– В отставку Керзона!!»
Явное «присутствие» Маяковского обнаруживается в булгаковском фельетоне 1924 г. «Багровый остров». Беглое аллегорическое изложение событий определенного исторического периода, нарочитое «приспособление» к новым условиям классически-известных сюжетов, образов и деталей (из романов Жюля Верна), утрированное деление персонажей на «положительных» и «отрицательных», примитивная подмена этики политикой – во всем этом узнаются художественные поиски автора «Мистерии-буфф». Из того же источника Булгаков, возможно, заимствовал и «реализованную» метафору революционной стихии (потоп – вулкан).
Весьма вероятно, что появление булгаковского фельетона связано не только с творчеством Маяковского, но и с деятельностью Мейерхольда: Булгаков отразил ситуацию вокруг постановки спектакля «Трест Д. Е.» по роману И. Эренбурга (чья книга «А все-таки она вертится» подтолкнула рассказчика «Столицы в блокноте» к знакомству с «авангардным» театром). Будучи в начале 1920-х годов глашатаем эстетики конструктивизма, Эренбург сам пострадал от ее апологетов: М. Подгаецкий, которому Мейерхольд поручил инсценировать «Трест Д. Е.», «склеил» отдельные мотивы романа Эренбурга с эпизодами романа Б. Келлермана «Туннель», а также ввел туда некоторые элементы произведений Э. Синклера и П. Ампа. «Мейерхольд пренебрег правами и замыслом автора, перекроив сюжет его романа в стопроцентный “красный” боевик»10. 5 марта 1924 г. Эренбург обратился к режиссеру с просьбой отказаться от инсценировки, а 20 апреля в Литературном приложении, к газете «Накануне» увидел свет булгаковский фельетон – одним из стимулов к его появлению явилась история с «Трестом Д. Е.».
Важно отметить, что автор фельетона «Багровый остров» смеялся, по-видимому, не только над другими, но и над самим собой. Правда, никто не читал произведения, написанного Булгаковым тремя годами раньше (весной 1921 г.), – пьесы под названием «Сыновья муллы»; однако о ее существовании автор честно рассказал в 1922 г. в «Записках на манжетах»:
«Через семь дней трехактная пьеса была готова. Когда я перечитал ее у себя, в нетопленой комнате, я, не стыжусь признаться, заплакал. В смысле бездарности – это было нечто совершенно особенное, потрясающее! Что-то тупое и наглое глядело из каждой строчки этого коллективного творчества. <...> Я начал драть рукопись. Но остановился. Потому что вдруг, с необычайной, чудесной ясностью, сообразил, что правы говорившие: написанное нельзя уничтожить! Порвать, сжечь... от людей скрыть. Но от самого себя – никогда!»
То, что для Булгакова было халтурой, пародировалось им независимо от того, кому эта халтура принадлежала. Он был достаточно самоуверенным человеком, чтобы не бояться самокритики, и, между прочим, весьма скептически относился к собственной публицистике начала 1920-х годов. В неоконченной прозе 1929 г. «Тайному другу» Булгаков признается: «Волосы дыбом, дружок, могут встать от тех фельетончиков, которые я там насочинил».
Кроме «фельетончиков», шла, однако, работа и над крупными вещами. В 1924 г. Булгаков заканчивает «Белую гвардию». Здесь, во-первых, можно увидеть продолжение полемики по вопросу о вредоносности или благотворности «быта». В стихотворении Маяковского «О дряни» (1920) одним из ключевых символов мещанского «вещизма» была канарейка: Маркс, вернее, его портрет «орет», что канарейкам пора свернуть головы, ибо в них страшная угроза коммунизму. Видимо, отнюдь не случайно булгаковский Лариосик появляется на страницах романа с клеткой в руках и, как бы ведя заочный спор, провозглашает: «Птица – лучший друг человека. Многие, правда, считают ее лишней в доме, но я одно могу сказать – птица уж, во всяком случае, никому не делает зла».
Но Булгаков идет дальше. Стихи Ивана Русакова в «Белой гвардии», не без оснований полагает М. Каганская, – «откровенная пародия на великую революционно-футуристическую поэму Маяковского “Облако в штанах”»11. То есть Булгаков отважился воевать на территории противника12:
- БОГОВО ЛОГОВО
Раскинут в небе
Дымный лог.
Как зверь, сосущий лапу,
Великий сущий папа
Медведь мохнатый
Бог.
В берлоге
Логе
Бейте бога.
Звук алый
Боговой битвы
Встречаю матерной молитвой.
Конечно, булгаковский Русаков имеет мало общего с Маяковским, но цель автора «Белой гвардии» ясна: на примере молодого поэта, который на глазах читателя избавляется от «бунтарства» и впадает в религиозный экстаз, Булгаков стремится показать наносность и искусственность футуристического богоборчества. Не забудем и о том, что прототипом другого персонажа «Белой гвардии», Михаила Семеновича Шполянского – идейного вдохновителя и искусителя подобных Русакову юнцов, был В. Шкловский13, чьи работы служили для футуристов теоретической базой. Таким образом, под огонь пародии в романе попадали теоретик и «практик» футуризма.
Вскоре после «Белой гвардии» появилась повесть «Роковые яйца». Известно, что ряд ее сюжетных мотивов заимствован из произведений Герберта Уэллса – «Машина времени», «Пища богов», «Остров доктора Моро» и др.14 Особо следует подчеркнуть перекличку с уэллсовским рассказом «Остров Эпиорнис», где герой на необитаемом острове выводит из яйца реликтовую птицу, от которой приходится спасаться ему самому. Примерно та же сюжетная схема – непредсказуемые последствия, связанные с яйцом, – использована в серии «ростинских» плакатов под названием «О красном яичке», выпущенной в феврале 1920 г.; подписи под плакатами принадлежат Маяковскому:
-
1. Происшествие чрезвычайно неясное:
снесено яичко, да не простое, а красное...
2. Дед бил-бил, не разбил...
3. Баба била-била, не разбила...
4. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало.
5. И мышка едва лапки не протянула.
Разумеется, сказочка – политическая: на плакатах на «красном яичке» надпись – «РСФСР», «дед» – белогвардейский генерал, «баба» – Антанта, а «мышка» – польский пан. Но ведь и у Булгакова в повести явно присутствует политическая аллегория; и «яичко» тоже оказывается – не дай бог...
В контексте нашей темы повесть «Роковые яйца» представляет особый интерес: это первое булгаковское произведение, на которое Маяковский «отреагировал». Впрочем, заметил он, скорее всего, не собственно повесть, а первый и единственный в СССР полноценный прижизненный сборник Булгакова «Дьяволиада», вышедший в 1925 г., конфискованный цензурой, а затем выпущенный вторично в 1926-м. Вернувшись в конце 1925 г. из-за границы, Маяковский в интервью корреспонденту газеты «Заря Востока» рассказал, как в одной из американских газет появилось сенсационное сообщение под заголовком «Змеиные яйца в Москве», в котором сюжет булгаковской повести пересказывался как реально случившееся событие. На афишах выступлений Маяковского – «Мое открытие Америки» (Москва, 1925, декабрь; Ленинград, 1926, январь – февраль; и др,), «Дирижер трех Америк (СШСА)» (Москва, 1925, декабрь) – есть пункт: «Змеиные яйца в Москве».
Выпадов против Маяковского в «Роковых яйцах», по-видимому, нет, а вот Мейерхольду слегка досталось: на страницах повести он... гибнет «при постановке пушкинского «Бориса Годунова», когда обрушились трапеции с голыми боярами». «В этом выпаде все по-булгаковски точно, все осмысленно: и насмешка над эксцессами авангардистского театра, и то, что знаменитый режиссер будто бы погиб при попытке “модернистски” истолковать классическое – пушкинское! – произведение»15. Булгаков соединил «трапеции», использовавшиеся Мейерхольдом при оформлении спектаклей «Мистерия-буфф», «Смерть Тарелкина», «Великодушный рогоносец», – и фразу, произнесенную режиссером перед слушателями ГЭКТЕМАСа 28 февраля 1924 г.: «Дмитрий должен был непременно лежать на лежанке, непременно полуголый... даже тело непременно показать... сняв чулки, например, у Годунова, мы заставим иначе подойти ко всей трагедии». Вот откуда у Булгакова голые бояре на трапециях, которые до смерти зашибли Мейерхольда16.
Маяковский Булгакову ответит – но не сразу, а года через три. Пока же предпочитает спорить не посредством художественных форм, а устно, публицистически.
1926 г. был отмечен несколькими значительными событиями в театральной жизни Москвы. Мейерхольд выпустил спектакль «Ревизор». МХАТ поставил пьесу Булгакова «Дни Турбиных» (первоначально называвшуюся «Белая гвардия»); Студия им. Евг. Вахтангова – «Зойкину квартиру».
«Ревизора» Булгаков видел, и с Мейерхольдом этот спектакль его не примирил. Л. Белозерская вспоминала: «Мы с М. А. были на генеральной репетиции и, когда ехали домой на извозчике, так спорили, что наш возница время от времени испуганно оглядывался. Спектакль мне понравился, было интересно. Я говорила, что режиссер имеет право показать эпоху не только в мебели, тем более если он талантливо это делает, а М. А. считал, что такое самовольное вторжение в произведение искажает замысел автора и свидетельствует о неуважении к нему. По-моему, мы, споря, кричали на всю Москву»17.
Под «самовольным вторжением в произведение», вероятно, имелось в виду то, что Мейерхольд, назвав спектакль «Ревизор», ввел в комедию ряд персонажей и сюжетных мотивов из других гоголевских произведений. Но не пройдет и пяти лет, как сам Булгаков поступит подобным образом: в 1930 г. создаст инсценировку «Мертвых душ», включающую мотивы повестей «Рим» и «Невский проспект», а в 1932 г. – «мольериану» «Полоумный Журден» по мотивам нескольких комедий Мольера.
Несмотря на устойчивое негативное отношение Булгакова к «биомеханике», Мейерхольд на него, видимо, обиды не держал, отнесся к автору «Дней Турбиных» с интересом и сочувствием, содействовал тому, чтобы пьеса не была задержана цензурой; когда же разрешение было получено, даже письменно поздравил с этим Станиславского. Мейерхольд предлагал Булгакову написать для его театра пьесу; однако отношения с ТИМом так и не завязались. Интересно, что и МХАТ в 1926 г. делал попытки привлечь к сотрудничеству презиравшего этот театр Маяковского18, однако поэт для сотрудничества явно не «созрел». Выступление Маяковского 2 октября 1926 г. при обсуждении спектакля «Дни Турбиных» показывает, что для него оставались враждебными как политические позиции Булгакова, так и вся эстетика Художественного театра. В речи вновь звучат «тети Мани и дяди Вани», над которыми поэт издевался еще в «Мистерии-буфф», только теперь к прежним «дядям и тетям» прибавились новые, белогвардейские.
Впрочем, хотя, на взгляд Маяковского, «актеатры» достойны «гильотины», он не сторонник политики запретительства по отношению к «нежелательным» в идеологическом смысле произведениям искусства. Поэт выступил «и за право театра ставить чуждые, скажем, ему, Маяковскому, пьесы, и за право публики на любую реакцию на них»19. Но, конечно, идея политического «плюрализма» была Маяковскому глубоко чужда. И «Дни Турбиных» до самой смерти останутся для него символом поднимающего голову «старого мира». Недаром в стихотворении 1928 г. «Лицо классового врага», в его первой части, новый советский буржуа – «буржуй-нуво» – описывается так:
- На ложу
в окно
театральных касс
тыкая ногтем лаковым,
он дает
социальный заказ
на «Дни Турбиных» – Булгаковым20.
«То обстоятельство, что “буржуй-нуво”, нэпман-парвеню – один из главных и постоянных остро ненавидимых объектов булгаковской сатиры, осталось Маяковским незамеченным»21. Не «опознал» Маяковский «своих» героев и в комедии Булгакова «Зойкина квартира»: в то время он еще не видел, как, оттесняя недобитого «буржуя-нуво» и жирных высокопоставленных «гусей», проедающих народные червонцы, на авансцену выходит хорошо вооруженный человек в скромной полувоенной форме.
Булгаков это видел. А если бы даже и не наблюдал воочию, все равно: знал. Именно потому, что дышал воздухом литературы, которая многократно проигрывала этот сценарий: Великий Инквизитор вместо Христа. Маяковский же предпочитал дышать кислородом «искусства будущего», от которого кружилась голова и нереальной казалась опасность, нарисованная, например, в замятинском романе «Мы». Булгакова с Замятиным связывали приятельские отношения, и слово «мы» Булгаков воспринимал вполне «по-замятински». А для Маяковского в середине 1920-х годов было еще вполне актуально «стоять на глыбе слова «мы» среди моря свиста и негодования для того, чтобы с радостью растворить маленькое “мы” искусства в огромном “мы” коммунизма»22.
Вопрос о том, стоит ли растворять «я» в «мы», в числе прочих был поставлен Булгаковым в повести «Собачье сердце. Для нас интересны прежде всего источники центральной сюжетной линии произведения. Во-первых, здесь явно просвечивают общеизвестные блоковские мотивы: уже в самом начале образы «черного вечера» и «белого снега», ветра, сбивающего с ног даму (правда, отнюдь не «в каракуле»), мнимого «буржуя», бездомного пса вызывают отчетливые ассоциации с поэмой «Двенадцать»23. Причем вопрос о средствах «преображения» старого мира в новый для Булгакова не менее (если не более) важен, чем для Блока.
Мотив всепобеждающей стихии, претворившийся в «Мистерии-буфф» в образ всемирного потопа, откликнулся у Булгакова (в романе «Белая гвардия» и повести «Собачье сердце») темой стихии «улицы», врывающейся в отлаженный уютный быт и разрушающей его. Метафоре потопа соответствует у Булгакова и метафора ковчега – «дома-корабля», который до определенного момента служит надежным пристанищем, однако начинает трещать под ударами стихии. В «Белой гвардии» ковчег, по-видимому, погибает; в «Собачьем сердце» до этого не доходит, хотя «потоп» (буквальный, а не метафорический) угрожает профессорской квартире.
Но образ бездомного пса в булгаковской повести встает еще в один ассоциативный ряд. А. Жолковский не без основания видит в числе прототипов Шарикова тот образ Маяковского, который был «сконструирован» самим поэтом в художественных и публицистических произведениях24. Вспомним, например, строки из финальной части поэмы «Про это»:
- Я люблю зверье.
Увидишь собачонку –
тут у булочной одна –
сплошная плешь, –
из себя
и то готов достать печенку.
Мне не жалко, дорогая,
ешь!
Горячая и несколько сентиментальная любовь Маяковского к животным отмечалась неоднократно. «Он говорил, что любит их за то, что они не люди, а все-таки живые»25, – вспоминала Л. Брик. Достаточно открыть любое издание писем Маяковского26 – и станет видно, насколько обильно представлена в них «собачья» тема. Постоянные подписи под письмами – «Счен», «Щен», «Щенок» часто сопровождаемые изображением щенка; иногда рисунок заменяет подпись.
Как мы помним, лирический герой поэмы «Люблю» «обучался азбуке с вывесок». Подобным образом учится грамоте булгаковский Шарик27. Причем неглупый пес нахватался еще и вершков массовой культуры – уже на первых страницах в его речи звучит: «Нигде кроме такой отравы не получите, как в Моссельпроме». Цитируется не просто известная реклама, данный текст в начале 1920-х годов являлся одним из лефовских лозунгов. Теоретик ЛЕФа О. Брик называл эту рекламу лучшим из написанного Маяковским, а сам автор в автобиографии «Я сам» (1928 г.) заявлял: «Несмотря на политическое улюлюканье, считаю “Нигде кроме как в Моссельпроме” поэзией самой высокой квалификации».
Но рекламные тексты Маяковского писались не только о Моссельпроме. Есть у него, например, реклама объединения «Мосполиграф» – может быть, и ее подсознательно усвоил пес, который, превратившись в «человека», пожелает стать Полиграфом Полиграфовичем Шариковым? Наконец, звучит в повести наименование еще одного промышленного объединения. «Проклятая Жиркость!» – ругает богатый пациент Преображенского продукцию этого треста, сделавшую зелеными его волосы. Вспомним, что в стихотворении «Юбилейное» поэт приглашает Пушкина заняться «агитками» и принять участие в рекламировании как раз этой самой продукции: «Я дал бы вам жирность и сукна», – обещает Пушкину лирический герой Маяковского28.
В «Собачьем сердце» Булгаков ведет полемику с Маяковским по кардинальным философским проблемам. «Своего профессора он назвал – Преображенский и заставил его издеваться над центральными идеями Маяковского: омоложением и бессмертием»29. У Булгакова «новый человек» предстает пародией на божество; для Маяковского, напротив, постоянные идеи – императив богочеловечества и избавление от власти природы. Вспомним эпизод во втором действии «Мистерии-буфф», где перед нечистыми появляется «самый обыкновенный человек» с «новой Нагорной проповедью», заявляющий: «Царствие мое земное – не небесное». Этот новый мессия провозглашает: «Долой природы наглое иго!» Разумеется, идея человека как «царя природы» неприемлема для автора «Собачьего сердца» ни в общефилософском, ни в социально-историческом плане.
Перекличка булгаковской повести с «Мистерией-буфф» ощутима и в сцене обеда Преображенского и Борменталя, во время которого звучит монолог о разрухе: «Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? <...> ...Когда эти баритоны кричат: “Бей разруху!”, – я смеюсь». «Нетрудно догадаться, – пишет С. Фуссо, – что эти “баритоны” суть параноидально размноженный голос Маяковского»30. Что касается «старухи с клюкой», она перекочевала из «Окон РОСТА» – в одном из выпусков (1920, январь) имеются такие строки Маяковского:
- ...Дорога закрыта Разрухой!
Как же быть нам с треклятой старухой?
Затем ее персонифицированный образ появится в пятом действии «Мистерии-буфф»:
- Назад!
Чего молотищами ухают?
Назад! Кто спорит со мной,
с разрухою?
Здесь царствую я –
царица разруха:
я жру паровоз,
сжираю машину.
Как дуну –
сдуну фабрику пухом.
Как дуну –
сдуну завод, как пушину.
И далее в том же духе. Поскольку в словах Преображенского возникает похожий образ, можно предположить, что булгаковский профессор хаживал не только в Большой, но и в Театр Мейерхольда.
Однако вряд ли, конечно, он порекомендовал бы идти туда Шарикову. Когда Преображенский советует ему сходить вместо цирка в театр, то, скорее всего, подразумевает нечто «понятное» (вспомним очерк «Столица в блокноте»). Но Полиграф Полиграфович отказывается наотрез: цирк и только цирк. В данной оппозиции слышатся отзвуки полемики Булгакова с Мейерхольдом. Кроме того, появляется еще один штрих, заставляющий задуматься о «присутствии» Маяковского в «Собачьем сердце». Остро критическое суждение вчерашнего бездомного пса о храме Мельпомены: «Да дурака валяние... Разговаривают, разговаривают... Контрреволюция одна!» – и содержательно, и стилистически перекликается с уже цитированным прологом «Мистерии-буфф»: «...гнусят на диване тети Мани да дяди Вани».
Даже основной музыкальный лейтмотив «Собачьего сердца» – напеваемая Преображенским мелодия из «Аиды» – воспринимается как момент полемики с Маяковским, который в 1918 г. в «Открытом письме к рабочим» гневно заявил: «С удивлением смотрю я, как с подмостков взятых театров звучат “Аиды” и “Травиаты”». Большой театр был для Маяковского одним из главных оплотов «акстарья». Может быть, не случайно булгаковский Шарик так ненавидит «милую Аиду»?
В середине 1920-х годов Булгаков и Маяковский явно осознавали себя антиподами. Однако судьба порой подстраивала им встречи в самых неожиданных местах. Например, Л. Белозерская вспоминала: «...мы оба попали в детскую книжку Маяковского «История Власа, лентяя и лоботряса» в иллюстрациях <...> Н. А. Ушаковой. / Полюбуйтесь: вот мы какие, родители Власа. М. А. ворчал, что некрасивый»31.
С 1926 г. в жизни Булгакова начался «театральный период», и полемика с Маяковским перенеслась на театральные подмостки. В законченной весной 1927 г. комедии «Багровый остров» пародийное начало одноименного фельетона развито и усилено. Здесь высмеивались произведения так называемого «левого фронта»: «Трест Д. Е.» по роману И. Эренбурга и «Рычи, Китай!» С. Третьякова, поставленные в ГосТИМе, пьесы В. Билль-Белоцерковского «Лево руля» (Малый театр) и «Шторм» (Театр им, МГСПС). Основная сюжетная линия «Багрового острова» напоминала историю лихорадочно-спешной постановки пьесы одного из лидеров ЛЕФа С. Третьякова в январе 1926 г.: «Генеральная репетиция “Рычи, Китай!” в ТИМе стала одним из прообразов генеральной репетиции в театре Геннадия Панфиловича с теми же “английскими матросами” и с “установкой” на показ антиколониальной борьбы»32.
Стало быть, вновь вызов ЛЕФу. Правда, к тому времени, как спектакль «Багровый остров» вышел в Камерном театре (это случилось только в декабре 1928 г.), слова «ЛЕФ» и «Маяковский» перестали быть синонимами. И кто знает – возможно, реплика помощника режиссера у Булгакова: «Володя, крикни бутафору, чтобы в Арарате провертел дыру вверху и в нее огню! А ковчег скиньте!» – отнюдь не случайна. Декорация «Мистерии-буфф» больше не нужна «левому» театру.
Но получилось так, что буквально через пару недель после премьеры «Багрового острова» Маяковский закончил работу над «феерической комедией». Он сам шутливо писал по этому поводу: «Говорят, из-за границы домой попав, после долгих вольтов, Маяковский дома поймал “Клопа” и отнес в театр Мейерхольда». За обращение к «насекомой» некоторые критики приравняли Маяковского к Булгакову, в чьей пьесе «Бег» обыгрывался мотив «тараканьих бегов». Фельетонист «Вечерней Москвы» оценивал оба произведения как совершенно чуждые современности, ужасаясь неразборчивости театров: «И не прочтешь без содроганья, какой репертуар готов: от тараканьих состязаний до замороженных клопов»33.
В том же 1928 г. Маяковский аттестовал Булгакова как автора для «буржуев-нуво». Но, внимательно вчитываясь в комедию «Клоп», обнаруживаешь: в ней звучит, скорее, согласие с автором «Багрового острова», чем полемика с ним. Вначале отметим, что автопародийность, присутствовавшая в фельетоне «Багровый остров», не исчезла и в булгаковской комедии. Халтурщик Дымогацкий явно осознается как «автопортрет»; недаром, узнав о запрещении своей пьесы, он восклицает: «Ночью звезды глядят в окно, а окно треснувшее и не на что вставить новое... Полгода, полгода я горел и холодел, встречал рассветы на Плющихе с пером в руках, с пустым желудком. А метели вьют, гудят железные листы... а у меня нет калош!..» И через несколько страниц вновь: «Чердак! Шестнадцать квадратных аршин, и лунный свет вместо одеяла. О вы, мои слепые стекла, скупой и жиденький рассвет...» Для персонажа сатирической комедии – монолог необычный; так и кажется, что через мгновение раздастся: «Боги, боги мои...» И, кстати, в монологе Дымогацкого во многом предвосхищаются реплики Максудова, явно автобиографического героя «Записок покойника».
Но автопародийный элемент появляется и в «Клопе» – Маяковский явно иронизирует над собственными идеями начала 1920-х годов. Тема воскрешения и связанный с нею образ зоосада («зверинца») пришли из поэмы «Про это», где лирический герой просился «к зверю в сторожа»34. Патетику сменила сатира: воскресили отнюдь не пламенного поэта – разморозили «бывшего рабочего, бывшего партийца, ныне жениха»; «зверь» оказался клопом. Романтическим мечтам приходил конец, но это не было еще полным разочарованием.
Маяковский ответил в «Клопе» на более ранний булгаковский выпад – вспомнил эпизод «гибели» Мейерхольда в «Роковых яйцах». Фамилию Булгакова Маяковский в «Клопе» помещает в «словарь умерших слов»: «Бюрократизм, богоискательство, бублики, богема, Булгаков...» В то же время здесь получили развитие мотивы «Собачьего сердца». «В пьесе Маяковского “Клоп” профессор размораживает» Присыпкина (т. е. оживляет – подобно тому, как профессор Преображенский «оживляет» Клима Чугункина в Шарикове). Он наблюдает стадии оживления и адаптации (как Борменталь наблюдает и фиксирует стадии “очеловечивания” Шарикова) – и в конце концов помещает Присыпкина в зоосад (на самом деле герой отправляется туда добровольно, но сути это не меняет. – Е. Я.), отказав ему в праве на отождествление с разумным существом и причислив к животным... Как и Шариков, Присыпкин оказывается “хуже” простого пса – от него “все собаки взбесились. Оно выучило их стоять на задних лапах. Собаки не лают и не играют, а только служат” <...> Реплика Присыпкина: “Воскресили... и издеваются!” – звучит как прямая цитата из Шарикова: “Разве я просил мне операцию делать?.. Ухватили животную, исполосовали ножом голову, а теперь гнушаются”. И тот и другой ощущают себя – хотя и по-разному – жертвами науки»35.
Будучи во многом согласен с Булгаковым, Маяковский все-таки расходится с ним в вопросе о том, следует ли считать Шарикова и Присыпкина угрожающей «нормой», или же это досадные исключения на фоне общего благополучия. «Между этими двумя чрезвычайно похожими персонажами – пропасть, ибо Маяковский считал, что типы, подобные Присыпкину, еще встречаются в нашей действительности, а Булгаков был уверен, что типы, подобные Шарикову, уже в ней встречаются»36. При этом финал «Клопа» внешне звучит даже более резко, нежели булгаковская повесть. Маяковский повторяет здесь прием Гоголя. Истерика Присыпкина: «Граждане! Братцы! Свои! Родные! Откуда? Сколько вас?! Когда же вас всех разморозили? Чего ж я один в клетке? Родимые, братцы, пожалте ко мне!» – явно восходит к реплике Городничего: «Чему смеетесь? – Над собой смеетесь!»
«Перекличку» с булгаковскими произведениями содержит и картина идеологически выдержанной «красной» свадьбы, которую рисует Присыпкину Баян: «Невеста вылазит из кареты – красная невеста... вся красная, – упарилась, значит; ее выводит красный посаженый отец, бухгалтер Ерыкалов, – он как раз мужчина тучный, красный, апоплексический, – вводят это вас красные шафера, весь стол в красной ветчине и бутылки с красными головками. <...> Красные гости кричат “горько, горько”, и тут красная (уже супруга) протягивает вам красные-красные губки...» Сопоставим с этим «красный луч», открытый профессором Персиковым, и «цыпляток» из «красного» инкубатора, справиться с которыми оказалось не под силу и Красной Армии. Вспомним также в «Роковых яйцах» эпизод, когда Персиков получает визитную карточку «сотрудника московских журналов – “Красный огонек”, “Красный перец”, “Красный журнал”, “Красный прожектор” и газеты “Красная вечерняя Москва”», а потом еще и «сатирического журнала “Красный ворон, издания ГПУ”». И, конечно, из того же ряда «апоплексический» цвет булгаковского «багрового» острова, на котором белые до времени арапы достигают идеологической спелости.
Обратим внимание и на то, что летом 1928 г. Маяковским написано стихотворение под подозрительно «булгаковским» заголовком – «Красные арапы»: о советских служащих, членах партии, охваченных страстью игры в рулетку. Противоестественное, разностильное сочетание понятий в названии стихотворения – вполне в духе Булгакова; но ни с фельетоном, ни с комедией «Багровый остров» это стихотворение, кажется, не имеет ничего общего; скорее, напоминает «Зойкину квартиру».
Вполне в стиле арестованной повести «Собачье сердце» звучит сочиненная Маяковским на рубеже 1928–1929 гг. шутливая миниатюра – подпись к дружескому шаржу, опубликованному в январе 1929 г в журнале «Чудак»: «Говорят – за изящную фигуру и лицо, предчувствуя надобность близкую, артиста Ильинского профессор Кольцов переделал в артистку Ильинскую». И. Ильинский играл роль Присыпкина в Театре Мейерхольда, и неудивительно, что автор «Клопа» «произвел» над ним операцию, подобную тем, что проделывал булгаковский виртуоз Преображенский, чьим прототипом явился именно профессор Н. К. Кольцов. Маяковский пишет этот забавный текст как раз тогда, «когда Булгаков, заглядывая в год предстоящий, видит в нем явственно гибель едва ли не всех своих пьес. <...> Так Маяковский вступил на глазах Булгакова на драматургическое поприще – в тот самый момент, когда под ногами Булгакова театральные подмостки сильней всего заколебались»37.
А. Смелянский называет «Багровый остров» «последней репликой Булгакова в театральной дискуссии 20-х годов»38. Когда Маяковский в сентябре 1929 г. заканчивал «Баню», имени Булгакова на театральных афишах уже не было. Как бы ни относился Маяковский к автору «Дней Турбиных», но три года назад он высказывался все-таки против запрещения этой пьесы. Теперь же цензурные мытарства придется испытать самому автору «Бани». Комедия лежала в Реперткоме два с половиной месяца, и по этому поводу Маяковский написал эпиграмму, в которой у зловещего «рубаки» Саввы Лукича появился не менее зловещий побратим:
- Подмяв моих комедий глыбы,
Сидит Главрепетком Гандурин.
– А вы ноктюрн сыграть могли бы
На этой треснувшей бандуре?
«Несмотря на принадлежность к противоположным литературным лагерям, литературная судьба Маяковского (в частности, симптомы директивно вводимой изоляции) роковым образом оказывалась параллельной ситуации, в которую был поставлен Булгаков с осени 1929 г., судьба “Бани” могла в обстановке 1930 г. оказаться тождественной судьбе «Дней Турбиных», а попытка Булгакова сопротивляться судьбе (письмо от 28 марта) – функционально аналогичной вступлению Маяковского в РАПП»39.
Поэт не был особенно силен по части предвидений, но, пусть с запозданием, он тоже разглядел то, что надвигалось. Отметим немаловажную деталь, мелькнувшую в финале «Мистерии-буфф». Непосредственно перед апофеозом – пением «обновленного» «Интернационала» – звучит реплика Соглашателя: «Товарищи, не надо зря голосить, пение обязательно надо согласить». Кузнец «вежливо отодвигал» новоявленного регента, однако тот появился вновь – в образе Главначпупса, возглавляющего некое учреждение «по управлению согласованием»40. Для Маяковского слово «согласование» не столько «координация», сколько «соглашательство». От «Прозаседавшихся» и «Бюрократиады» к комедии «Баня» происходит «укрупнение» масштаба бюрократизма: характеристика Победоносикова распространяется, по существу, уже на всю систему.
Возможно, не случайно поэтому звучат в «Бане» отголоски «Дьяволиады». Велосипедкин говорит о бритоголовом Оптимистенко: «Он гладкий и полированный, как дачный шар. На его зеркальной чистоте только начальство отражается, и то вверх ногами». Вспомним голову одного из булгаковских братьев Кальсонеров: «Лысой она была тоже как яйцо и настолько блестящей, что на темени у неизвестного, не угасая, горели электрические лампочки». Оптимистенко спрашивает Чудакова, у которого за время хождений по инстанциям отросла борода: «Это вы сами или ваш брат? <...> Да нет... Он же ж без бороды». Данный мотив – «брат с бородой / брат без бороды» – также напоминает о «Дьяволиаде», где близнецы Кальсонсры различаются именно по признаку бородатости–безбородости.
С булгаковским творчеством соотносится и основная сюжетная ситуация «Бани», связанная с «машиной времени». Сама по себе эта тема была постоянно близка Маяковскому, но перекличка с повестью «Роковые яйца» ощутима в комичных попытках персонажей «Бани» приспособить изобретение Чудакова к насущным потребностям. В 1927 г. А. Воронский назвал «Роковые яйца» «памфлетом о том, как из хорошей идеи получается отвратительная чепуха, когда эта идея попадает в голову отважному, но невежественному человеку»41. Велосипедкин у Маяковского вначале собирается использовать машину Чудакова для защиты от чересчур ретивых ораторов, а потом, совершенно в духе Александра Семеновича Рокка, предлагает: «...мы от нее проведем провода, ну, скажем, на все куриные инкубаторы, в пятнадцать минут будем взращивать полупудовую курицу...»
«“Луч жизни” в булгаковском рассказе – такая же “машина времени”, как и та, которую изобретает Чудаков в «Бане», но Булгаков предупреждает об опасности ускорения общественных процессов в условиях бюрократизма, ибо из нынешних яиц бюрократ способен высидеть или вынести черт-те какое будущее, а Маяковский, весь устремленный «в завтра, вперед», ратует за желательность ускорения социальных процессов, призванных покончить с бюрократизмом»42. Но устремленность «в завтра» окрашена здесь несколько отчаянными тонами, ибо проистекает все-таки из разочарованности в «сегодня». Какими бы «пережитками прошлого» ни изображал Маяковский Победоносикова и К°, он осознавал, что настоящее не слишком отличается от прошлого. Автопародии в «Бане» нет; наоборот, с новой силой звучит стремление «обогнать стаи сердце раздиравших мелочей» («Про это»). Последнее, что оставалось, – мечта о воздаянии: может, хоть будущее все расставит по местам...
По воспоминаниям М. Чимишкиан, Маяковский говорил ей; «Ну, я пьесу написал – заткну за пояс твоего Булгакова!»43 Идеологическая брезгливость середины 1920-х годов сменилась духом ревнивого соперничества. В «драме с цирком и фейерверком» звучит не просто полное согласие с Булгаковым, но даже какое-то стремление к сотрудничеству (не забудем, что в 1928–1929 гг. они периодически встречались и за бильярдом). Маяковский фактически повторяет жанровую структуру «Багрового острова»: «Оба произведения – «пьесы в пьесе», и в обоих случаях персонаж «рамочной» пьесы по должности призван судить о «вставной»44, причем в обеих пьесах делает это мимоходом – перед отъездом на курорт. Как у Булгакова, так и у Маяковского миры «рамочной» и «вставной» пьес взаимопроникают. В «Багровом острове» друг на друга накладываются фактически три сюжета: пьеса Дымогацкого опосредуется заботами директора о новом спектакле и отношениями внутри труппы, и все это еще «подсвечивается» сюжетом «Горя от ума», от репетиции которого актеры непосредственно переходят к «Багровому острову». Столь же «багровая» пантомима в третьем действии «Бани» – явная вариация на тему пьесы Дымогацкого. Подобно тому, как Булгаков сажает своего Савву Лукича на трон Сизи-Бузи 2-го, Маяковский возводит сюжет «в квадрат»: выясняется, что Победоносиков уже два действия смотрит из зала на сцену – видит себя и не узнает.
Судя по всему, к автору пьесы для Камерного театра у Маяковского претензий не было. Даже его Моментальников, схватывающий «социальный заказ» на лету («Эчеленца, прикажите!»), – это, в сущности, родной брат Ликуй Исаича из «Багрового острова», на всякую реплику директора отвечающего: «Не продолжайте, Геннадий Панфилыч, я уже понял». И звучащие в «Бане» шутки в адрес МХАТа – насчет «Вишневой квадратуры» и «Дяди Турбиных» – абсолютно непохожи на недавние гневные выпады. Вообще, отношение поэта к Художественному театру в последний год лишено особой агрессивности. Не последней причиной было знакомство в мае 1929 г. с молоденькой актрисой МХАТа Вероникой Полонской. Она была женой М. Яншина, блистательно игравшего Лариосика в «Днях Турбиных». Полонская станет последним человеком, видевшим живого Маяковского.
«Баня» понравилась всем, кроме цензуры. МХАТ вновь начал переговоры с Маяковским о сотрудничестве. Завлит театра П. Марков вспоминал, что Маяковский предложил написать комедию о любви: «Он как бы предвидел принятую теперь в драматургии форму пьесы с двумя участниками. <...> ...Мы расстались с Маяковским, как мне кажется, взаимно убежденными в скором осуществлении намеченного замысла – этого “лирического диалога”»45. Планам не суждено было сбыться: «лирический диалог» шел в жизни и не воплотился в драму. Но связи Маяковского с мхатовцами продолжались, тем более что отношения со многими прежними друзьями оказались прерваны – и после ухода из ЛЕФа, и из-за выставки «20 лет работы».
Пожалуй, в эти месяцы Маяковский был ближе к МХАТу, чем Булгаков. Даже о самоубийстве в последние дни жизни он размышлял «с оглядкой» на МХАТ. 12 апреля, набрасывая перед встречей с В. Полонской план решающего разговора, Маяковский записывает последним пунктом: «Я не кончу жизнь, не доставлю такого удовольствия худ. театру»46 (имея в виду, конечно, Яншина).
Л. Брик приводит краткую заметку из своего дневника 23 сентября 1929 г.: «Маяковский читал “Баню” труппе Театра Мейерхольда; успех был бурный, “говорили, что Маяковский – Мольер, Шекспир, Пушкин, Гоголь”»47. На прозвучавшее сравнение с Мольером Булгаков не мог не отреагировать: слишком близка была ему эта фигура. В октябре–декабре 1929 г. была создана написал пьесу «Мольер». Одним из стимулов к работе, как предполагает М. Чудакова, явилось «впечатление от реакции литературно-театральной общественности на новую пьесу Маяковского». Именно «перемещение» Маяковского из рядов авангарда в ряды классиков «вызвало острую реакцию Булгакова – это была экспансия в ту область, которую он числил за собой, которую, в отличие от новаторских течений, брался оценивать. Пьеса «Мольер» оказывается окрашенной литературной полемикой – не с текстом пьесы Маяковского, а с его интерпретацией – то есть с «текстами» Мейерхольда и других первых слушателей “Бани”»48.
Но, несмотря на все успехи и неудачи, соперничество и полемику, кризис в жизни двух писателей приближался неотвратимо: их судьбы «переламывались» вместе с жизнью всей страны. Еще летом 1929 г. Булгаков написал Сталину отчаянное письмо, завершавшееся словами: «...я обращаюсь к Вам и прошу Вашего ходатайства перед Правительством СССР ОБ ИЗГНАНИИ МЕНЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ СССР...»
«Союбилейщики» подошли к юбилеям без особой радости. Маяковский – растерявший друзей, запутавшийся в личной жизни, написавший острую (и провалившуюся) комедию, удостоенный индивидуальной выставки и впервые ощутивший «ледяное дыхание власти»
(Ю. Карабчиевский); и Булгаков (для которого власть всегда была мачехой), сидевший дома без работы, без денег и тоже собственноручно создавший «выставку» (десять лет работы!) – альбом газетных и журнальных вырезок с рецензиями, среди которых соотношение положительных и отрицательных (по словам самого «юбиляра») равнялось 1:99.
В. Перцов писал, что с Маяковским случилось нечто похожее на последние дни жизни Мольера: врачи, обиженные мольеровскими комедиями, не захотели его лечить, а «пострадавшие» от Маяковского высокопоставленные государственные и литературные функционеры не пожелали поздравить его с юбилеем49. Булгаков тоже по-своему «повторил» Мольера: не только блестящим талантом и общим неблагополучием судьбы, но и тем, что, доведенный до крайности, обратился к Первому лицу в государстве.
В написанном 28 марта 1930 г. письме Правительству СССР обратим внимание лишь на одну деталь. Булгаков, с горькой гордостью заявляющий, что стал «сатириком эпохи», при этом как бы защищает право человека и мира на известную «порочность». Его идеал – Великая Эволюция; но разве эволюция лишена ошибок – так сказать, нежелательных мутаций? Или другое: те «страшные черты народа», от которых, по словам Булгакова, страдал еще Щедрин, – поддаются ли они исправлению? Возможно ли исправить народ? Не говоря об этом прямо, Булгаков в подтексте письма выражает взгляды на задачи сатиры и смысл работы сатирика. Получается, что этот смысл состоит не столько в «искоренении» органических пороков, сколько в защите «нормального неблагополучия» мира от чересчур активного «лечения», от не в меру ретивых «хирургов», вмешательство которых приводит к тяжелым осложнениям. Булгаков здесь близок к Гоголю, чьим сатирическим «манифестом» явились слова пророка Иеремии: «Горьким словом моим посмеюся».
Можно себе представить, в каком волнении прожил Булгаков первую половину апреля 1930 г. Предупредив «Правительство», что в сложившейся ситуации единственный его путь – гибель, и видя, что «Людовик» не отзывается, Булгаков в эти дни осознает: «Выход один – кончать жизнь»50. Маяковский же «внешне последние месяцы живет прежней жизнью, выступает, ведет активную общественную деятельность, произносит речи, не лишенные газетного пафоса, но делает это уже как-то по инерции, сбиваясь с обычного уверенного тона»51. Притом «самоубийца и самоубийство – один из главных мотивов в творчестве Маяковского (где естественная смерть так же необычна, как у Достоевского)»52. Стихи и бильярд уступили место письмам и «русской рулетке». 12 апреля 1930 г. поэт пишет письмо «Всем». 14 апреля Маяковского не стало. 15-го сообщение об этом было напечатано в газетах. «Выстрел в грудь прощает многое, и человек, выстреливший себе в грудь, сразу перестает быть автором “Стиха не про дрянь, а про дрянцо” и снова становится автором “Облака в штанах”. Короткая линия, которую прочеркивает пуля, перечеркивает десяток плохих строк и подчеркивает не один десяток хороших»53.
«Не бывши для Булгакова поэтом, погибший сразу стал в его глазах по меньшей мере страдальцем <...>. Понятно в связи с этим – независимо от того, насколько серьезной была его решимость на подобный шаг, – каким эхом должен был отдаться для него грянувший выстрел его литературного противника, разом многое искупив в его глазах, и, с другой, как бы “заместив” его собственное действие»54.
17 апреля Булгаков был на похоронах Маяковского – сохранилась сделанная И. Ильфом фотография, где Булгаков снят вместе с В. Катаевым и Ю. Олешей. На следующий день ему позвонил Сталин – «получалось, что в те договорные отношения, которые один расторгал своей смертью, другой теперь вступал, связав себя дополнительно во время телефонного разговора вполне определенной зависимостью...»55
19 апреля Булгаков вернулся во МХАТ.
Разумеется, о последних неделях, часах, секундах Маяковского он знал всё. Вероятно, следил за тем, как вели себя после смерти поэта его новые «друзья» (два последних месяца своей жизни тот был членом РАПП). Через десять дней после похорон, 26 апреля, они написали письмо тому же адресату, к которому в конце марта обращался Булгаков. Речь шла о том, что Маяковский не успел-таки излечиться от влияния «анархо-индивидуалистического прошлого», «недотянул» до уровня образцового пролетарского писателя, а потому незачем делать ему в прессе слишком шумную посмертную рекламу. Письмо в ЦК ВКП(б), Сталину, Молотову подписали Л. Авербах, В. Ермилов, В. Киршон, Ю. Лебединский, А Селивановский, В. Сутырин, А. Фадеев. Поступило указание: выступить по данному вопросу в «Правде». Разумеется, выступили. Статья Л. Авербаха, Л. Сутырина и Ф. Панферова «Памяти Владимира Маяковского» появилась в «Правде» 19 мая 1930 г.
С рапповцами у Булгакова были свои счеты. Недаром 30 мая 1931 г. он письменно признавался все тому же Людовику Джугашвили: «С конца 1930 года я хвораю тяжелой формой нейрастении с припадками страха и предсердечной тоски, и в настоящее время я прикончен». Как след одного из таких припадков остался в его бумагах набросок стихотворения (!), которое Булгаков пытался писать 28 декабря 1930 г. Название этого исповедального текста – «Funérailles» («Похороны»). В наброске есть, в частности, такие строки:
- Вспомню ангелов, жгучую водку
И ударит <мне> газом
В позолоченный рот.
Почему ты явился непрошенный
Почему ты <не кончал> не кричал
Почему твоя лодка брошена
Раньше времени на причал?
Трудно не согласиться с М. Чудаковой, предположившей, что «образцом» послужили стихи Маяковского из второго, лирического вступления к поэме «Во весь голос», прозвучавшие в его предсмертном письме:
- Как говорят «инцидент исперчен»
Любовная лодка
разбилась о быт
Я с жизнью в расчете
и не к чему перечень
Взаимных болей
бед
и обид.
М. Петровский обращает внимание еще на одну деталь наброска: «...газы здесь у Булгакова – пороховые, речь идет о самоубийстве, а «позолоченный рот» – портретная черта Маяковского, постоянный мотив эпиграмм на него»56.
Знакомая Булгакова М. Чимишкиан рассказывала, как в первые дни после смерти Маяковского застала Булгакова с газетой, в которой было напечатано письмо «Всем», Он показал ей на строку «Любовная лодка разбилась о быт» и спросил: «Скажи – неужели вот – это? Из-за этого?.. Нет, не может быть! Здесь должно быть что-то другое!»57 Вновь выплеснулись наружу патетические интонации поэмы «Про это». И Булгаков, несколько лет назад рисовавший Маяковского мещанином, пародировавший в «Белой гвардии» даже истинно талантливые его стихи, в 1930 г. сближает судьбу поэта с собственной судьбой.
Драматические события рубежа десятилетий отодвинули работу над замыслом, возникшим еще в конце 1929 г., в пору создания «Мольера». Этот замысел будет осуществлен только в начале 1934 г.: «Блаженство» – пьеса о машине времени и путешествии в будущее. Вспомним, что Фосфорическая женщина у Маяковского обещала: «Остановимся на станции 1934 год для получения справок». Булгаковская пьеса и оказалась такой «остановкой», с которой совершается прыжок не в тридцатый, как в поэме «Про это», не в двадцать первый, как в «Бане», а в двадцать третий век.
Еще при первой публикации «Блаженств» (1966) было отмечено, что «по своему идейному замыслу комедия во многом сродни “Клопу” Маяковского»58. «Родство» в данном случае больше похоже на отношения антиподов, ибо «Блаженство» – произведение антиутопическое, глубинно сходное с замятинским романом «Мы». Комедия Маяковского этому роману все-таки противостояла, причем полемика велась открытая (в 1928 г. травля Замятина еще не началась). Недаром в седьмой картине «Клопа» подчеркивается характерная деталь: «стеклянные стены домов». Когда Булгаков писал «Блаженство», Замятин уже два года как эмигрировал из СССР.
В середине 1960-х годов были также отмечены переклички между «Блаженством» и «Баней» (здесь, по мнению В. Сахновского-Панкеева, «полемичность пьесы Булгакова не вызывает сомнений»59). Помимо общих мотивов чудесного изобретения и образов изобретателей – людей «не от мира сего», внимание привлекают образы Фосфорической женщины и Авроры, родственных по признаку «светоносности». Как и в «Бане», звучат в «Блаженстве» мотивы «Ревизора»; хотя булгаковский Милославский имеет мало общего с Победоносиковым, однако хлестаковские интонации прорываются и у несимпатичного главначпупса, и у по-своему обаятельного Солиста. А свистопляска с часами, устроенная Милославским в Блаженстве, напоминает мотив всеобщей ненужности часов, звучащий в «Бане» от первой до последней страницы: в первом же эпизоде Велосипедкин спрашивает: «Унасекомили, значит, Швейцарию?» – а в конце Понт Кич изъявляет желание скупить все часы в СССР – за ненадобностью.
Острова блаженных, Элизиум, Елисейские Поля... Маяковский по Елисейским Полям (реальным, разумеется, парижским) гулял не раз, Булгакову же так и не привелось. В 1934 г., кажется, было совсем улажено с поездкой – но и она сорвалась: случилось это через два месяца по окончании работы над «Блаженством». Через год – еще одна попытка Булгакова поехать за границу: вновь безрезультатная и на сей раз последняя. 26 июля 1935 г. он с невеселым юмором писал В. Вересаеву: «...я очутился вместо Сены на Клязьме. Ну что же, это тоже река». Ничего не меняли и новые письма Сталину. Неизвестно, читал ли их покровитель изящных искусств, но о Булгакове он определенно помнил: по его указанию во МХАТе в 1932 г. возобновили «Дни Турбиных». Как подметил А. Шварц, Сталин вместе с Кировым были на этом спектакле 29 ноября 1934 г., т. е. за два дня до убийства Кирова. «Выходит, генеральный секретарь сидел рядом с Миронычем в правительственной ложе, улыбался, аплодировал, гладил усы, а подосланный им убийца уже хранил в портфеле пистолет. <…> Таких актеров даже во МХАТе не видали»60.
Ведя одностороннюю переписку с главным актером СССР, вряд ли мог пропустить Булгаков знаменитую сталинскую фразу о Маяковском, прозвучавшую в конце 1935 г. Началось все раньше, когда в докладе на Первом Всесоюзном съезде советских писателей Н. Бухарин, говоря о задачах современной поэзии, высказал мнение, «что “агитка” Маяковского уже не может удовлетворить, что она стала уже слишком элементарной, что сейчас требуется больше многообразия, больше обобщения, что вырастает потребность в монументальной поэтической живописи, что раскрыты все родники лирики и что даже самое понятие актуальности становится уже иным»61. И хотя в заключительном слове Бухарин уточнил: «...я очень высоко ставлю Маяковского, и у меня есть формула, что он стал “классиком советской поэзии”; но отсюда не следует, что нужно фетишизировать даже такого крупного человека, как Маяковский»62, – однако его точка зрения была интерпретирована без затей: «первым поэтом» следует назначить Пастернака. Впрочем, тот, выступая на съезде, отказался от почетной «должности», призвав всех «не жертвовать лицом ради положения» и сказав об опасности государственной «ласки» для художника63. По существу, повторил мысль грибоедовской Лизы: «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь».
Но Маяковский уже не мог выбирать, за него выбирали другие. В ноябре 1935 г. Л. Брик направила Сталину письмо, жалуясь на пренебрежение к памяти и заслугам поэта и прося защитить его доброе имя. Резолюция прозвучала как приговор: «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям – преступление». 5 декабря 1935 г. эти слова были напечатаны в «Правде». Вскоре Триумфальная площадь в Москве стала площадью Маяковского.
Неудивительно, что эти события, происходившие в преддверии невеселого «юбилея» Пушкина, оживили в памяти Булгакова стихотворение Маяковского, написанное в год другого пушкинского юбилея. Со времен «Юбилейного» эти имена оказались сближены; но, несмотря на бесспорную, хотя и ревнивую, любовь Маяковского к Пушкину, для Булгакова он оставался в том числе футуристом-«пушкиноборцем», поглощенным идеей собственного «рукотворного памятника». Нагнетание государственной любви к Маяковскому должно было усилить это ощущение. Еще в начале 1930-х годов, работая над «романом о дьяволе», Булгаков ввел в него фигуру поэта-конформиста, злобно завидующего Пушкину. Слова Рюхина перед памятником на Тверском бульваре напоминают сцену, которой открывается «Юбилейное»: лирический герой Маяковского обращается к тому же памятнику. Фамильярно-покровительственный тон этого стихотворения «вызвал в свое время бурную реакцию в виде карикатур, пародий и т. д.»64.
Рассматривая ассоциативную связь между образами памятника в булгаковском романе и Медного Всадника в пушкинской поэме, Б. Гаспаров говорит еще об одном аспекте образа Рюхина: «Если Маяковский обращается к памятнику в фамильярно-доброжелательном тоне, то Рюхин разговаривает с памятником со злобой, в припадке неврастении – в точном соответствии с поведением “безумца бедного” – Евгения в поэме Пушкина. <...> Данные ассоциации, по принципу обратной связи, придают еще один аспект теме Маяковского в романе, присоединяя к ней мотив “безумца бедного”»65. Слова Рюхина о «белогвардейце» Дантесе соотносятся со строчками Маяковского:
- Сукин сын Дантес!
Великосветский шкода.
Мы б его спросили:
– А ваши кто родители?
Чем вы занимались
до 17-го года? –
Только этого Дантеса бы и видели.
Впрочем, «присутствие» Маяковского в романе «Мастер и Маргарита» ощущается и в образе другого поэта – Ивана Бездомного, в каком-то смысле выступающего антиподом Рюхина. Очевидна преемственная связь образов Ивана Бездомного и «фантомиста-футуриста» Ивана Русакова; однако в романе «Мастер и Маргарита» тема Маяковского приобретает и трагическую окраску. Аллюзии на него в последнем булгаковском романе оценочно двойственны: отблески судьбы Маяковского окрашивают как халтурщика-конформиста, так и талантливого невежду, осознающего в итоге собственное невежество.
Б. Гаспаров подчеркивает в романе скрытые цитаты из поэмы Маяковского «Владимир Ильич Ленин». Лицемерный тост Пилата, называющего Тиверия «самым дорогим и лучшим из людей», ассоциируется с хрестоматийно известными словами «самый человечный человек», «самый земной изо всех прошедших по земле людей». Сцена смятения в «Доме Грибоедова» при получении известия о гибели Берлиоза довольно близко воспроизводит аналогичную сцену в поэме (известие о смерти Ленина, полученное съездом Советов)66. А фраза повествователя: «Все кончено, не будем больше загружать телеграф», – напоминает строки из черновиков второго вступления к поэме «Во весь голос»: «Я не спешу и молниями телеграмм мне незачем тебя будить и беспокоить».
С судьбой Маяковского соотносится в булгаковском романе также эпизод похорон Берлиоза. Тело поэта везли на грузовике. По воспоминаниям Л. Лавинской, «16-го утром Агранов сказал, что Маяковского будут хоронить на лафете, а в середине дня стало известно: дадут простой грузовик – все-таки самоубийца»67. Героиня Булгакова наблюдает из Александровского сада похороны: «странно растерянные» лица людей, сопровождающих «гроб весь в венках» на «медленно двигающейся похоронной новенькой открытой машине». Берлиозу это еще более «не по чину», чем Маяковскому, однако из разговора Маргариты с Азазелло выясняется, что хоронят тело без головы: данное обстоятельство, вероятно, и заставило «снизить класс» церемонии, все участники которой поглощены мыслью об исчезнувшей голове.
Такое «сцепление» двух событий: похороны и важный разговор, изменивший всю жизнь героини, – в романе «Мастер и Маргарита» фактически повторяет ситуацию в жизни самого Булгакова: вспомним, что разговор со Сталиным состоялся на следующий день после похорон Маяковского.
В лирической линии романа судьба поэта тоже отразилась, и это еще раз подчеркивает неоднозначность отношения Булгакова к Маяковскому. Б. Гаспаров обнаруживает скрытую цитату в сбивчивых словах Мастера: «Он говорил что-то про косой дождь и отчаяние в подвальном приюте...» Эта яркая деталь вызывает в памяти горькие строки из стихотворения «Домой!», снятые Маяковским перед публикацией:
- Я хочу быть понят моей страной.
А не буду понят –
что ж.
По родной стране
пройду стороной.
Как проходит
косой дождь.
В романе «Мастер и Маргарита» есть детали, напоминающие реальные обстоятельства жизни Маяковского; многозначительны, например, совпадения двух сцен «последнего разговора». Об одной вспоминает В. Полонская: «Я ответила, что люблю его, буду с ним, но не могу остаться здесь сейчас, ничего не сказав Яншину. Я знаю, что Яншин меня любит и не перенесет моего ухода в такой форме: как уйти, ничего не сказав Яншину, и остаться у другого. Я по-человечески достаточно люблю и уважаю мужа и не могу поступить с ним так»68. Полонская хотела вернуться вечером, но через несколько секунд после того, как она закрыла за собой дверь, в комнате раздался выстрел. Сходная сцена нарисована в рассказе Мастера: « – Вот как приходится платить за ложь, – говорила она, – и больше я не хочу лгать. Я осталась бы у тебя и сейчас, но мне не хочется это делать таким образом. Я не хочу, чтобы у него навсегда осталось в памяти, что я убежала от него ночью... Он не сделал мне никогда никакого зла... <....> Я объяснюсь с ним завтра утром, скажу, что люблю другого, и навсегда вернусь к тебе. <...> – Через четверть часа поле того, как она покинула меня, ко мне в окно постучали...»
И еще немаловажная в романе деталь: соотношение букв «М» и «W», одна из которых вышита Маргаритой на шапочке Мастера, а другую успевает заметить Бездомный на визитной карточке «профессора». Зеркально отражаясь друг в друге, эти буквы обозначают довольно глубокие отношения между двумя персонажами – Мастером и Воландом. Обратимся к воспоминаниям Л. Брик: «Мы никогда не снимали подаренные друг другу еще в петербургские времена вместо обручальных кольца-печатки. <...> Для Володиного я заказала латинские буквы М/W»69. Не исключено, что Булгаков видел это кольцо на пальце у Маяковского, но совпадение может быть и случайным.
Говоря о романе «Мастер и Маргарита», М. Чудакова подчеркивает стремление активно воздействовать на собственную «биографию и постбиографию»: «...Маяковский сделал, кажется, все для того, чтобы и смерть его, как вся его жизнь, была также и литературным Фактом (письмо правительству, последние стихи)...»70 Явная автобиографичность «Мастера и Маргариты» свидетельствует о сходном стремлении его автора моделировать свою посмертную судьбу: «Роман Булгакова дописывался автором до последних дней, уподобляясь в каком-то смысле предсмертным стихам Маяковского»71.
Роман писался долго, и Булгаков видел, как умирала эпоха, в которой остался реальный, а не мифологизированный Маяковский. В 1936 г. Мейерхольду не разрешили сделать новую постановку «Клопа». В рамках начвашейся кампания борьбы с «формализмом» режиссер выступил в Ленинграде с докладом «Мейерхольд против мейерхольдовщины», где обрушился на мхатовскую постановку пьесы Булгакова «Мольер». В частности, режиссер сказал: «В спектакле Н. Горчакова я видел лучшие времена моих загибов»72. Булгаков вклеил в альбом вырезку из доклада и фотографию докладчика. 26 марта 1936 г. в Москве, нападая на Камерный театр, Мейерхольд ставил в вину А. Таирову постановку в 1928 г. «Багрового острова»; критиковал Театр сатиры за то, что туда «пролез Булгаков»73. И Елена Сергеевна Булгакова отметит в дневнике: «А как Мейерхольд просил у М. А. пьесу – каждую, которую М. А. писал»74.
Еще строится новое здание Театра Мейерхольда. Между прочим, режиссер намеревался сделать в нем музей Маяковского, в одной из стен которого должна была находиться урна с прахом поэта. Но в декабре 1937 г. Булгаков прочитает в «Правде» статью П. Керженцева о Мейерхольде под заголовком «Чужой театр» – и скажет жене, что Мейерхольд боится вовсе не потери театра, а беспокоится лишь о партбилете и о собственной жизни75. Впрочем, нет ничего странного, что режиссер волновался за свою жизнь. 23 июня 1939 г. Е. Булгакова записывает: «Будто бы арестован Мейерхольд». Подобные слухи чаще всего оказывались правдой...
Подходил к концу 1939 год; приближался «юбилей» Маяковского – столь же невеселый, как и недавний пушкинский. В январе 1940 г. друг поэта Н. Асеев в гостях у умиравшего Булгакова читал свою поэму «Маяковский начинается»76. Наверное именно после этого писатель продиктовал жене запись «для памяти»: «Маяковского прочесть как следует».
Булгаков завершал свои «двадцать лет работы». Начавший десятью годами позже Маяковского, он пережил его на десять лет – без тридцати пяти дней. В тот день, когда умирал в Москве Булгаков, – 10 марта 1940 г. – Анна Ахматова в Ленинграде заканчивала стихотворение «Маяковский в 1913 году»: она помнила о близящейся годовщине. А через несколько дней после этого стихотворения напишет другое – «Памяти Михаила Булгакова».
Михаил Булгаков, Владимир Маяковский: диалог сатириков. М., 1994
![]()
1![]() Петровский М. С. Михаил Булгаков и Владимир Маяковский // М. А. Булгаков-драматург и художественная культура его времени. М., 1988. С. 375, 382.
Петровский М. С. Михаил Булгаков и Владимир Маяковский // М. А. Булгаков-драматург и художественная культура его времени. М., 1988. С. 375, 382.
2![]() Брик Л. Из воспоминаний // Имя этой теме: любовь! Современницы о Маяковском. М., 1993. С. 118.
Брик Л. Из воспоминаний // Имя этой теме: любовь! Современницы о Маяковском. М., 1993. С. 118.
3![]() Кстати, готовя «Записки на манжетах» к переизданию (которое не состоялось), Булгаков выбросил эпизод с ДЮВЛАМом.
Кстати, готовя «Записки на манжетах» к переизданию (которое не состоялось), Булгаков выбросил эпизод с ДЮВЛАМом.
4![]() Нинов А. А. Михаил Булгаков и театральное движение 1920-х годов // Булгаков М. А. Пьесы 1920-х годов. Л., 1990. С. 22.
Нинов А. А. Михаил Булгаков и театральное движение 1920-х годов // Булгаков М. А. Пьесы 1920-х годов. Л., 1990. С. 22.
5![]() Петровский М. С. Указ. соч.. С. 372.
Петровский М. С. Указ. соч.. С. 372.
6![]() Якобсон Р. О поколении, растратившем своих поэтов // Якобсон Р., Святополк-Мирский Д. Смерть Владимира Маяковского. The Hague; Paris, 1975. С. 20.
Якобсон Р. О поколении, растратившем своих поэтов // Якобсон Р., Святополк-Мирский Д. Смерть Владимира Маяковского. The Hague; Paris, 1975. С. 20.
7![]() Клейман Р. Я. Мениппейные традиции и реминисценции Достоевского в повести М. Булгакова «Собачье сердце» // Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1991. Вып. 9. С. 226.
Клейман Р. Я. Мениппейные традиции и реминисценции Достоевского в повести М. Булгакова «Собачье сердце» // Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1991. Вып. 9. С. 226.
8![]() Перцов В. Маяковский: Жизнь и творчество: [В 3 т.] М., 1976. Т. 3. С. 327.
Перцов В. Маяковский: Жизнь и творчество: [В 3 т.] М., 1976. Т. 3. С. 327.
9![]() Обелиск Свободы с 1919 по 1941 г. находился на Советской (ныне Тверской) пл.– там, где сейчас памятник Юрию Долгорукому.
Обелиск Свободы с 1919 по 1941 г. находился на Советской (ныне Тверской) пл.– там, где сейчас памятник Юрию Долгорукому.
10![]() Нинов А. А. Указ. соч. С. 12.
Нинов А. А. Указ. соч. С. 12.
11![]() Каганская М. Белое и красное// Литературное обозрение. 1991 № 5. С. 98.
Каганская М. Белое и красное// Литературное обозрение. 1991 № 5. С. 98.
12![]() Кстати, Маяковский, в свою очередь, имел намерение попробовать силы в художественной прозе. В 1923 г. у него возник замысел романа, и в конце 1925-го он даже заключил на него договор с Госиздатом. Журнал «Книгоноша» (1926. № 10) информировал: «Место действия – Петербург и Москва, время с 1914 года по наши дни. В центре романа изображение литературной жизни и быта, борьбы школ и т. д.». Однако замысел не был реализован.
Кстати, Маяковский, в свою очередь, имел намерение попробовать силы в художественной прозе. В 1923 г. у него возник замысел романа, и в конце 1925-го он даже заключил на него договор с Госиздатом. Журнал «Книгоноша» (1926. № 10) информировал: «Место действия – Петербург и Москва, время с 1914 года по наши дни. В центре романа изображение литературной жизни и быта, борьбы школ и т. д.». Однако замысел не был реализован.
13![]() Каверин В. Эпилог. Мемуары. М., 1997. С. 32.
Каверин В. Эпилог. Мемуары. М., 1997. С. 32.
14![]() Еще в 1926 году, оценивая талант Булгакова довольно пренебрежительно, тот же Шкловский писал, что «Роковые яйца» «сделаны из Уэллса». См. также: Rydel С. Bulgakov and H. G. Wells // Russian Literature Triquarterly. 1978. № 15.
Еще в 1926 году, оценивая талант Булгакова довольно пренебрежительно, тот же Шкловский писал, что «Роковые яйца» «сделаны из Уэллса». См. также: Rydel С. Bulgakov and H. G. Wells // Russian Literature Triquarterly. 1978. № 15.
15![]() Петровский М. С. Указ. соч. С. 388.
Петровский М. С. Указ. соч. С. 388.
16![]() Как отмечает А. Нинов, придуманная Булгаковым «деталь читалась как иронический курсив к реальной вывеске ТИМа, принявшего имя своего директора при его жизни»; «в августе 1922 года печать обсуждала дела Театра имени Мейерхольда – коллектив актеров присвоил себе это название самочинно и сокращал его как ТИМ. Название прижилось (в 1926 году театр получил статут государственного и стал называться ГосТИМ). Поскольку названия такого рода относили обычно к памяти умерших деятелей, Булгаков и акцентировал этот момент» (Нинов А. А. Указ. соч. С. 11) .
Как отмечает А. Нинов, придуманная Булгаковым «деталь читалась как иронический курсив к реальной вывеске ТИМа, принявшего имя своего директора при его жизни»; «в августе 1922 года печать обсуждала дела Театра имени Мейерхольда – коллектив актеров присвоил себе это название самочинно и сокращал его как ТИМ. Название прижилось (в 1926 году театр получил статут государственного и стал называться ГосТИМ). Поскольку названия такого рода относили обычно к памяти умерших деятелей, Булгаков и акцентировал этот момент» (Нинов А. А. Указ. соч. С. 11) .
17![]() Белозерская-Булгакова Л. Е. Воспоминания. М., 1989. С. 145.
Белозерская-Булгакова Л. Е. Воспоминания. М., 1989. С. 145.
18![]() Марков П. А. В Художественном театре: Книга завлита. М., 1976. С. 28, 533.
Марков П. А. В Художественном театре: Книга завлита. М., 1976. С. 28, 533.
19![]() Чудакова М. О. Жизнеописание Михаила Булгакова. 2-е изд. М., 1988. С. 351.
Чудакова М. О. Жизнеописание Михаила Булгакова. 2-е изд. М., 1988. С. 351.
20![]() Ю. Карабчиевский остроумно заметил, что «эти едкие строки о “новом буржуе” генеральный палач Советского Союза мог бы вполне отнести на свой счет. Известно, как нравились ему “Дни Турбиных”» (Карабчиевский Ю. Воскресение Маяковского. М., 1988. С. 43).
Ю. Карабчиевский остроумно заметил, что «эти едкие строки о “новом буржуе” генеральный палач Советского Союза мог бы вполне отнести на свой счет. Известно, как нравились ему “Дни Турбиных”» (Карабчиевский Ю. Воскресение Маяковского. М., 1988. С. 43).
21![]() Петровский М. С. Указ. соч. С. 370.
Петровский М. С. Указ. соч. С. 370.
22![]() Эти слова сказаны поэтом во время беседы с корреспондентом одесской газеты «Известия» в феврале 1924 г.
Эти слова сказаны поэтом во время беседы с корреспондентом одесской газеты «Известия» в феврале 1924 г.
23![]() Шаргородский С. Собачье сердце, или Чудовищная история // Литературное обозрение. 1991. № 5. С. 88–89.
Шаргородский С. Собачье сердце, или Чудовищная история // Литературное обозрение. 1991. № 5. С. 88–89.
24![]() Жолковский A. K. О гении и злодействе, о бабе и всероссийском масштабе: Прогулки по Маяковскому // Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. Мир автора и структура текста. Tenafly; N.J., 1986. С. 325.
Жолковский A. K. О гении и злодействе, о бабе и всероссийском масштабе: Прогулки по Маяковскому // Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. Мир автора и структура текста. Tenafly; N.J., 1986. С. 325.
26![]() Маяковский В. В., Брик Л. Ю. Переписка 1915–1930. Stockholm, 1982 (репринт: М., 1991); Литературное наследство. М., 1958. Т. 65; Маяковский В. Полн. собр. соч. Т. 13.
Маяковский В. В., Брик Л. Ю. Переписка 1915–1930. Stockholm, 1982 (репринт: М., 1991); Литературное наследство. М., 1958. Т. 65; Маяковский В. Полн. собр. соч. Т. 13.
27![]() Фуссо С. «Собачье сердце» – неуспех превращения // Литературное обозрение. 1991. № 5. С. 34.
Фуссо С. «Собачье сердце» – неуспех превращения // Литературное обозрение. 1991. № 5. С. 34.
29![]() Шаргородский С. Указ. соч. С. 91.
Шаргородский С. Указ. соч. С. 91.
31![]() Белозерская-Булгакова Л. Е. Указ. соч. С. 182.
Белозерская-Булгакова Л. Е. Указ. соч. С. 182.
32![]() Нинов А. А. Указ. соч. С. 12.
Нинов А. А. Указ. соч. С. 12.
33![]() Цит. по: Смелянский А. М. Михаил Булгаков в Художественном театре. 2-е изд. М., 1989. С. 201.
Цит. по: Смелянский А. М. Михаил Булгаков в Художественном театре. 2-е изд. М., 1989. С. 201.
34![]() Якобсон Р. Указ. соч. С. 21.
Якобсон Р. Указ. соч. С. 21.
35![]() Чудакова М. О. Послесловие // Булгаков М. Ханский огонь. Ижевск, 1988. С. 475, 477.
Чудакова М. О. Послесловие // Булгаков М. Ханский огонь. Ижевск, 1988. С. 475, 477.
36![]() Петровский М. С. Указ. соч. С 381.
Петровский М. С. Указ. соч. С 381.
37![]() Чудакова М. О. Жизнеописание Михаила Булгакова. С. 403.
Чудакова М. О. Жизнеописание Михаила Булгакова. С. 403.
38![]() Смелянский А. М. Указ. соч. С. 145.
Смелянский А. М. Указ. соч. С. 145.
39![]() Флейшман Л. О гибели Маяковского как «литературном факте»: Постскриптум к статье Б. М. Гаспарова // Slavica Hierosolymitana. Jerusalem, 1979. Т. 4. С. 128–129.
Флейшман Л. О гибели Маяковского как «литературном факте»: Постскриптум к статье Б. М. Гаспарова // Slavica Hierosolymitana. Jerusalem, 1979. Т. 4. С. 128–129.
40![]() Якобсон Р. Указ. соч. С. 18.
Якобсон Р. Указ. соч. С. 18.
41![]() Воронский А. Писатель, книга, читатель // Красная новь. 1927. № 1. С. 8.
Воронский А. Писатель, книга, читатель // Красная новь. 1927. № 1. С. 8.
42![]() Петровский М. С. Указ. соч. С. 388.
Петровский М. С. Указ. соч. С. 388.
43![]() Цит. по: Чудакова М. О. Проблема биографии и творчества в советской литературе 1920-х годов // Россия. Франция: Проблемы культуры первых десятилетий XX века. М., 1988. С. 300.
Цит. по: Чудакова М. О. Проблема биографии и творчества в советской литературе 1920-х годов // Россия. Франция: Проблемы культуры первых десятилетий XX века. М., 1988. С. 300.
44![]() Петровский М. С. Указ. соч. С. 385.
Петровский М. С. Указ. соч. С. 385.
45![]() Марков П. А. Книга воспоминаний. М., 1983. С. 269–270.
Марков П. А. Книга воспоминаний. М., 1983. С. 269–270.
46![]() См.: Перцов В. Указ. соч. С. 390, 452.
См.: Перцов В. Указ. соч. С. 390, 452.
48![]() Чудакова М. О. Жизнеописание Михаила Булгакова. С. 415–416.
Чудакова М. О. Жизнеописание Михаила Булгакова. С. 415–416.
49![]() Перцов В. Указ. соч. С. 378.
Перцов В. Указ. соч. С. 378.
50![]() Дневник Елены Булгаковой. М., 1990. С. 544.
Дневник Елены Булгаковой. М., 1990. С. 544.
51![]() Михайлов Ал. Маяковский: кто он? // Театр. 1989. № 12. С. 160.
Михайлов Ал. Маяковский: кто он? // Театр. 1989. № 12. С. 160.
52![]() Янгфельдт Б. Введение: К истории отношений В. В. Маяковского и Л. Ю. Брик // Маяковский В. В., Брик Л. Ю. Переписка; Брик Л. Указ. соч. С. 170; Якобсон Р. Указ. соч. С. 24–25.
Янгфельдт Б. Введение: К истории отношений В. В. Маяковского и Л. Ю. Брик // Маяковский В. В., Брик Л. Ю. Переписка; Брик Л. Указ. соч. С. 170; Якобсон Р. Указ. соч. С. 24–25.
53![]() Белинков А. Сдача и гибель советского интеллигента: Юрий Слеша. Мадрид, 1976. С. 584.
Белинков А. Сдача и гибель советского интеллигента: Юрий Слеша. Мадрид, 1976. С. 584.
54![]() Чудакова М. О. Жизнеописание Михаила Булгакова. С. 503, 504.
Чудакова М. О. Жизнеописание Михаила Булгакова. С. 503, 504.
55![]() Чудакова М. О. Проблема биографии и творчества в советской литературе 1920-х годов. С. 306.
Чудакова М. О. Проблема биографии и творчества в советской литературе 1920-х годов. С. 306.
56![]() Петровский М. С. Указ. соч. С. 379.
Петровский М. С. Указ. соч. С. 379.
57![]() Цит. по: Чудакова М. О. Жизнеописание Михаила Булгакова. С. 451.
Цит. по: Чудакова М. О. Жизнеописание Михаила Булгакова. С. 451.
58![]() Звезда Востока. 1966. № 7. С. 75.
Звезда Востока. 1966. № 7. С. 75.
59![]() Очерки истории русской советской драматургии: В 3 т. М., 1966. Т. 2. С. 135.
Очерки истории русской советской драматургии: В 3 т. М., 1966. Т. 2. С. 135.
60![]() Шварц А. Жизнь и смерть Михаила Булгакова: Документальное повествование. Теnаfly; N.J., 1988. С. 76.
Шварц А. Жизнь и смерть Михаила Булгакова: Документальное повествование. Теnаfly; N.J., 1988. С. 76.
61![]() Бухарин Н. И. Избранные труды: История и организация науки и техники. Л., 1988. С. 279–280.
Бухарин Н. И. Избранные труды: История и организация науки и техники. Л., 1988. С. 279–280.
63![]() Пастернак Б. Л. Избранное: В 2 т. Т. 2. С. 281–282.
Пастернак Б. Л. Избранное: В 2 т. Т. 2. С. 281–282.
64![]() Гаспаров Б. М. Из наблюдений над мотивной структурой романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» // Slavica Hierosolymifana. Jerusalem, 1978. Т. 3. С. 205. В начале 1930-х годов прямое сопоставление Маяковского с Пушкиным прозвучало в опубликованной за рубежом статье Д. Святополка-Мирского под примечательным названием – «Две смерти: 1837 – 1930». «Смерть Маяковского, – писал автор, – одно из тех событий, которые подводят итоги целому культурно-историческому периоду и становятся исходной точкой для его понимания. Таким же событием в свое время была смерть Пушкина» (Якобсон Р., Святополк-Мирский Д. Смерть Владимира Маяковского. С. 35).
Гаспаров Б. М. Из наблюдений над мотивной структурой романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» // Slavica Hierosolymifana. Jerusalem, 1978. Т. 3. С. 205. В начале 1930-х годов прямое сопоставление Маяковского с Пушкиным прозвучало в опубликованной за рубежом статье Д. Святополка-Мирского под примечательным названием – «Две смерти: 1837 – 1930». «Смерть Маяковского, – писал автор, – одно из тех событий, которые подводят итоги целому культурно-историческому периоду и становятся исходной точкой для его понимания. Таким же событием в свое время была смерть Пушкина» (Якобсон Р., Святополк-Мирский Д. Смерть Владимира Маяковского. С. 35).
65![]() Гаспаров Б. М. Указ. соч. С. 233.
Гаспаров Б. М. Указ. соч. С. 233.
67![]() Маяковский в воспоминаниях родных и друзей. М., 1968. С. 330.
Маяковский в воспоминаниях родных и друзей. М., 1968. С. 330.
68![]() Полонская В. Воспоминания о В. В. Маяковском // Имя этой теме: любовь! С. 305
Полонская В. Воспоминания о В. В. Маяковском // Имя этой теме: любовь! С. 305
69![]() Брик Л. Ю. Указ. соч. С.159–160.
Брик Л. Ю. Указ. соч. С.159–160.
70![]() Чудакова М. О. Проблема биографии и творчества в советской литературе 1920-х годов. С. 268.
Чудакова М. О. Проблема биографии и творчества в советской литературе 1920-х годов. С. 268.
72![]() Цит. по: Смелянский А. М. Указ. соч. С. 311.
Цит. по: Смелянский А. М. Указ. соч. С. 311.
73![]() Дневник Елены Булгаковой. С. 368.
Дневник Елены Булгаковой. С. 368.