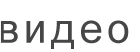Тема «Платонов и Золя» затронута здесь не впервые: литературоведами исследовались, например, взаимосвязи повести «Котлован» и утопического романа Золя «Труд»1. Сближение имен этих двух писателей может показаться неожиданным, однако обращение к конкретным текстам, в первую очередь к материалу романа «Человек-зверь» («La bête humaine», 1890), убеждает если не в прямом влиянии Золя на Платонова, то по крайней мере в наличии очень существенных и многозначительных «перекличек» между ними. Когда мы читаем у Золя, как при крушении паровоза, который носил имя «Лизон» и «обладал редкими качествами хорошей жены»2, кочегар Пекё, глядя на раненого машиниста Жака Лантье, думает, что «их жизнь втроем окончилась» (подразумевая в виду в качестве «третьего» именно паровоз), – невольно вспоминается герой платоновского рассказа «Старый механик», чья семья «состояла из него самого, его жены и паровоза серии “Э”, на котором работал Петр Савельич»3. Показательны и примеры из романа «Чевенгур», где о машинисте-наставнике говорится: «Он так больно и ревниво любил паровозы, что с ужасом глядел, когда они едут. <... Он считал, что людей много, машин мало; люди – живые и сами за себя постоят, а машина нежное, беззащитное, ломкое существо: чтоб на ней ездить исправно, нужно сначала жену бросить»; о нерадивом помощнике машинист-наставник отзывается так: «Он тут с паровозом как с бабой обращается, как со шлюхой с какой!» Однозначные ассоциации вызывает сцена из романа Золя, когда путевой обходчик Мизар непосредственно после смерти жены «прежде всего <... спокойно отрезал себе кусок хлеба, так как ощущал сильный голод. Бесконечно-долгая агония умирающей не дала ему возможности пообедать»; читавший Платонова вспомнит здесь первые строки платоновского «Сокровенного человека»: «Фома Пухов не одарен чувствительностью: он на гробе жены вареную колбасу резал, проголодавшись вследствие отсутствия хозяйки».
Предположение, что данный роман Золя был известен Платонову, косвенно подтверждается тем, что в рассказе «Усомнившийся Макар» некие персонажи именуются «люди-звери». Трудно однозначно определить, кого именно характеризует так писатель (не исключено, что имеются в виду существа, действительно находящиеся на промежуточной стадии между человеком и животным4), однако следует отметить, что подобное словосочетание, как бы прямо отсылающее к роману Золя, появилось в платоновском тексте в 1929 г.: как раз за год до этого «Человек-зверь» после длительного перерыва был переиздан и мог оказаться в кругу чтения Платонова; кроме того, в 1927 г. в СССР достаточно широко отмечалось 25-летие со дня смерти Золя. Примечательно, что словосочетание «люди-звери» в «Усомнившемся Макаре» возникает в «криминальном» контексте – при описании обитателей отделения милиции (наряду с «грабителями», «бездомными» и «неизвестными несчастными»): в этом также просматривается ассоциативная связь с Золя, поскольку «Человек-зверь» – роман уголовный.
Даже если мысль о непосредственном влиянии кажется не вполне обоснованной, очевидным все же остается сходство мотивов и деталей в произведениях двух авторов. В стилевом отношении они весьма различны; впрочем, нужно отметить, что роман Золя, хотя и принадлежит перу мэтра натурализма, является одним из его поздних произведений: здесь «классический» натурализм обнаруживает тенденции к известной эволюции. Во всяком случае, «Человек-зверь» отнюдь не отличается плоской «фотографичностью»; можно сказать, что Золя вывел ряд образов на уровень явных символов и тем самым (не единственный раз в своем творчестве) «превзошел» доктрину натурализма. Забота о предельном жизнеподобии не мешает появлению явно «недостоверных» деталей, местами вызывающих, говоря современным языком, сюрреалистический эффект. То, что у Золя воспринимается как «предвосхищение» платоновской манеры, есть в первую очередь нарушение границ между прямыми и переносными значениями, «реализация» отдельных метафор на общем жизнеподобном фоне (конечно, у Платонова эти черты выразятся гораздо резче). Что касается сюжетного сходства, внимание привлекает прежде всего своеобразная интерпретация «машинной», а конкретно – «паровозной» темы у Золя.
Вспомним, что и в русской литературе рубежа веков утвердился образ машины как полумистического чудовища, противостоящего органическому, гуманному началу; хрестоматийные примеры – «Молох» А. Куприна, «Мать» М. Горького, блоковская «Фабрика», «Господин из Сан-Франциско» И. Бунина, есенинский «Сорокоуст». Но на этом фоне роман «Человек-зверь» выглядит куда более «радикальным»; и паровоз здесь – одно из главных действующих лиц, причем слово «лицо» может быть употреблено буквально, а не метафорически.
По поводу замысла своей книги Золя писал: «Я хотел бы сохранить в течение всего романа сильное железнодорожное движение как постоянный аккомпанемент. Развить всю эту таинственную и ужасную драму на великом и современном транзитном пути». Действительно, с самого начала все сцены «Человека-зверя» перемежаются фрагментами, в которых создается железнодорожный «фон» – пейзажный или звуковой. Мотив железной дороги доминирует в художественном пространстве романа: на «осевой» линии Париж–Гавр фиксируется некая «кризисная» точка – глухой железнодорожный разъезд Круа-де-Мофра, где неподалеку от домика обходчика Мизара расположен пустующий загородный дом, принадлежащий богачу и развратнику Гранморену (с убийства которого действие и начинается). С этим локусом связаны все главные события, а именно – все случающиеся в романе смерти. Их немало: три убийства (Гранморен, Фази, Северина), одно самоубийство (Флора), 15 убитых и более 30 раненых пассажиров в подстроенной Флорой железнодорожной катастрофе. Кроме того, неподалеку от Круа-де-Мофра погибают, убив друг друга во время драки на паровозе, Жак и Пекё. Читатель узнаёт также о некогда совершившемся в доме Гранморена изнасиловании, приведшем к смерти Луизетты (сестры Флоры) Наконец, к числу убийств по праву должна быть прибавлена и гибель паровоза «Лизон». Характерно, что из перечисленных погибших почти все в свою очередь являются убийцами или соучастниками убийства: таковы Гранморен, Северина, Флора, Жак, Пекё; да и паровоз (как всякая машина), по Золя, то не просто орудие или инструмент, но едва ли не сознательный субъект убийства.
Уже это простое перечисление фактов дает общее представление об атмосфере романа «Человек-зверь», основная идея которого состоит в том, что гуманное, душевное начало, существуя как бы в промежутке между «звериным» и «машинным», в итоге совершенно подавлено и как бы вытеснено «сходящимися крайностями». Общим качеством, роднящим мир машин и «дикую» природу, оказывается их механическая фатальность: круговорот, ведущий к смерти. Данная идея реализуется в двух аспектах: во-первых, в сфере натурфилософских и антропологических проблем, во-вторых – в историософской проблематике.
Золя стремится доказать, что стихийно-биологическое начало в конечном счете доминирует в структуре личности и мотивирует поступки человека; в рабочих набросках к роману он ставит задачу: «На этом фоне, где механически движутся поезда, на фоне социальных и интеллектуальных достижений показать <...> status quo чувства, дикость, свойственную глубинам человеческого существа». В романе этот постулат формулируется в размышлениях Фази – тетки главного героя, Жака Лантье: «Звери <... остаются зверьми, и какую бы хитрую механику ни выдумали люди, все-таки и от нее не выведутся звери». Золя явился предшественником Платонова, уловив момент «взаимоперехода» гипертрофированных инстинктов и сверхрационального «машинного» существования. Вспомним, например, что в платоновских произведениях устойчива связь между мотивами сексуального извращения и бездушного, механического рассудка (Матиссен в «Эфирном тракте», палач в «Епифанских шлюзах», фашисты в рассказе «Мусорный ветер») – при том, что образ сексуальной «нормы» неясен и сексуальная проблематика практически всегда сопряжена с темой смерти.
Платоновские герои могут испытывать сладострастное влечение к неживому или нематериальному объекту: к паровозу, к выдуманной и заведомо мертвой Розе Люксембург («Чевенгур»), к абстрактной идее государства («Государственный житель») и т.п. Роман Золя в этом плане тоже дает богатый материал, ибо отношения человека к паровозу здесь трудно назвать иначе как «машинофилией» (это слово по отношению к Платонову употребляет Д. Бетеа5 – конечно, в метафорическом, а не прямом «сексологическом» смысле). Жак Лантье не может любить женщину нормальной, естественной любовью, поскольку эротическое чувство у него отягощено жаждой убийства: он стремится к «обладанию до полного уничтожения». Гипертрофированным, бесчеловечным сладострастием героя физиологически обусловлена его нежная и даже страстная привязанность к машине: он «любил свой паровоз, как любят нежную, добрую, преданную женщину, способную дать человеку счастье».
Все паровозы в романе Золя одушевлены: «У каждой из этих машин имелась своя собственная душа, нечто таинственное, приобретенное машиной при выделке и сборке, усвоенное металлическими частями при ковке и пригонке. Благодаря этому каждый паровоз обладал определенной индивидуальностью, жил собственной жизнью». Однако о паровозе № 214, носящем имя «Лизон», говорится, что он «был построен с логичностью и точностью, являющимися верхом красоты для этих металлических существ»; единственный недостаток «Лизон» – непомерная любовь к маслу, «вроде запоя». Между прочим, Жак полагает, что причина его собственного болезненного состояния и «генетических дефектов» его братьев Этьена и Колена кроется в алкоголизме предков. Сам он не употребляет спиртного, ибо под действием алкоголя «зверь», живущий в его подсознании, немедленно пробуждается. Может быть, поэтому Жак столь терпимо относится к отмеченному недостатку «Лизон»: «В продолжение четырех лет он ни разу не подавал жалобы на свой паровоз в депо, где имелась особая книга для записывания жалоб, тогда как плохие машинисты, лентяи или пьяницы, постоянно ссорились со своими паровозами».
Постепенно, однако, любовь к паровозу вытесняется у Жака под воздействием его отношений с Севериной: «“Лизон” была уже не единственной владелицей его сердца», – вполне естественно, что этой «отвергнутой возлюбленной» не остается ничего, кроме гибели. После аварии в снежном заносе «Лизон» словно поражена смертельным недугом: «Она уже не была теперь прежним послушным паровозом <... она сделалась упрямой и непокорной, будто стареющая женщина, которой простуда навсегда покалечила грудь». В итоге «Лизон» гибнет во время катастрофы – по вине девушки с явно «неслучайным» именем Флора.
Образ этой «воинственной девственницы, сторонящейся мужчин», откровенно символичен: Флора олицетворяет «природное» начало. «Вся фигура девушки, одновременно крепкая и гибкая, указывала на невероятную силу воли и дикую энергию. В околотке о ней сложилась уже легенда. Рассказывали чудеса про силу, которую она обнаруживала в случаях, когда в этом являлась необходимость», – например, Флора «остановила вагон, спускавшийся под уклон <..., наподобие разъяренного быка, который как бы несся вскачь навстречу приближавшемуся на всех парах экспрессу». Здесь она побеждает «зверя», поскольку сама еще не втянута в круговорот человеческих преступлений и «звериное» начало в ней самой еще не разбужено. Однако оно заговорит под воздействием ревности: в результате катастрофы, подстроенной Флорой лишь для того, чтобы погубить едущую в поезде любовницу Жака Северину, последняя остается невредимой, однако погибает бывшая «возлюбленная» машиниста – паровоз «Лизон» (а заодно еще несколько десятков человек). Смерть самой Флоры, шагнувшей навстречу поезду в тоннеле (уже после смерти Золя подобные сцены станут называть фрейдистскими), не только самоубийство, но и своеобразный сексуальный акт: «В момент страшного столкновения Флора выпрямилась во весь рост и широко раскрыла объятья, как будто ее могучая сила в своем последнем акте возмущения хотела схватиться с колоссом и победить его». Совершается «обладание до полного уничтожения», причем «побежденная» паровозом Флора не просто превращается в мертвое тело, но как бы теряет органическую природу, физически уподобляясь машине. Погибшая «дева-воительница» словно становится античной статуей: «Рабочие, посланные, чтобы разыскать труп самоубийцы, были удивлены его нежной, чисто-мраморной белизной.<...> Голова была размозжена, но на остальном теле не замечалось ни малейшей ссадины. Наполовину обнаженное, оно было изумительно прекрасно чистотой и мощностью своих форм»6.
Если в случае с Флорой, говоря словами Платонова, «безобразно-живое обратилось в бесчувственно-прекрасное», то в сцене гибели паровоза – наоборот; как ни парадоксально, именно в этот момент становится окончательно ясно, что машина была живым существом: «“Лизон”, свалившаяся набок, с распоротым брюхом, выпускала из себя, сквозь оторванные краны и поломанные трубки, целые столбы пара, с шипением и ревом, которые казались предсмертным хрипом пораженного насмерть колосса. Белый пар ее неистощимого дыхания стелился густыми клубами по поверхности земли. Из топки падали красные, как окровавленные внутренности, горящие угли, за которыми следовал черный дым. <...> Лежавшая колесами вверх “Лизон” производила впечатление чудовищной лошади, распоротой ударом рога какого-то дикого зверя. Ее искривленные шатуны, изломанные цилиндры, распрлющенные золотники и эксцентрики – все это вместе образовало страшную зияющую рану, через которую жизнь продолжала вытекать с ревом бешеного отчаяния. Как раз возле самого паровоза лежала живая еще лошадь с оторванными передними ногами и через свое прорванное брюхо так же теряла свои внутренности. Голова ее судорожно выпрямилась от ужасной муки. Видно было, что она ржет, но это страшное предсмертное ржание не достигало слуха, заглушенное предсмертным ревом паровоза»; «Вся в пене и грязи, “Лизон”, всегда такая чистенькая и блестящая, лежала теперь на боку, в луже, почерневшей от угля, и умирала такой же трагической смертью, как умирает выездная лошадь, ставшая посреди улицы жертвой несчастного случая». Подобное отождествление живого существа и механизма (хотя в более оптимистичном контексте) видим в романе «Чевенгур»: «Лошадь стояла, как машина – огромная, трепещущая, обтянутая узлами мускулов; на таком коне только целину пахать да деревья выкорчевывать». Кстати, Золя употребляет по отношению к паровозу «Лизон» местоимения как мужского, так и женского рода; точно так же поступает Платонов, называя Пролетарскую Силу то конем, то лошадью.
Думается, приведенные примеры достаточно отчетливо показывают, что в романе Золя, по существу, уже намечена та логика отношений в системе «животное – человек – машина», которая получит развитие в творчестве Платонова. Главная черта здесь – прямая и даже нарочито акцентированная связь физиологического и духовного: метафорические смыслы при этом «прорываются» на уровень фабулы, «реализуются» у Золя иногда прямо «по-платоновски». Это относится, например, к тому, как изображена в «Человеке-звере» судьба цивилизации в целом.
Мы не знаем, читал ли Золя работу К. Маркса «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 гг.», но бесспорно, что в его романе паровоз, вполне «по Марксу», предстает символом исторического процесса. Одна из основных проблем, которые ставит Золя, – вопрос о наличии прогресса в истории. В начале романа та же Фази рассуждает: «Теперь ведь никому не сидится дома, и все народы, как уверяют, вскоре сольются воедино. Вот это настоящий прогресс: люди, сделавшись братьями, мчатся на всех парах далеко-далеко, в блаженную страну, где текут молочные реки в кисельных берегах». В этих словах явно ощутим призвук авторской иронии, и через несколько страниц возникнет образ железной дороги как некоего зловещего существа: «Все это мчалось безостановочно, механически, победоносно, с математической правильностью уносилось в будущее, умышленно игнорируя человека с его затаенными, но вечно живыми стимулами – страстью и преступлением».
Образ неукоснительного поступательного движения становится лейтмотивом романа: «Все они <... с неумолимым механическим могуществом неслись к своей отдаленной цели, к будущему». Ненадолго прерванное катастрофой, в которой погибла «Лизон», движение вскоре возобновляется: «Трупы убрали, кровь оттерли, и все снова мчались вперед, туда, к будущему». В финале романа бесчеловечность этого процесса воплощается в эффектном символе: после того, как Пекё, напарник Жака, приревновав машиниста к своей подружке (вспомним, что с гибелью «Лизон» безоблачная «жизнь втроем» окончилась), набрасывается на него и оба в драке падают под колеса мчащегося паровоза, воинский эшелон, идущий на фронт (началась Франко-прусская война), остается без управления7: «Паровоз, освободившись теперь от всякого надзора, продолжал мчаться прямо вперед. Капризная и упрямая машина могла, наконец, дать себе полную волю»; «Что могли значить для паровоза попадавшиеся на его пути жертвы, который он немедленно уничтожал! Разве не мчался он к будущему, не обращая внимания на пролитую кровь? Он мчался во мраке, без всякого руководителя, словно слепой и глухой зверь, брошенный в смерть. Он несся, увлекая за собой поезд, нагруженный пушечным мясом, солдатами, которые, одурев от усталости и водки, орали во все горло песни» Таковы финальные фразы романа, утверждающего, что машина не только не в состоянии помочь цивилизации «убежать» от непреложной человеческой сущности – страсти к уничтожению, но сама воплощает эту сущность; развитие цивилизации не гасит, а, наоборот, с помощью технических средств усиливает «зверя» в человеке; с моральной точки зрения, это не прогресс, а регресс. Пьяные солдаты, несущиеся на поезде, чтобы убивать («машинальная сила», используя формулу романа «Чевенгур»), – кульминация исторического пессимизма Золя.
В середине 1920-х годов антиутопические, антитехнократические (с политическим подтекстом) идеи звучали у многих писателей («Собачье сердце» М. Булгакова, «Повесть непогашенной луны» Б. Пильняка, «Зависть» Ю. Олеши и др.). У Платонова, переживавшего сложный период автополемики с собственными социально-философскими декларациями рубежа 1910–1920-х годов, «паровозная» тема в этот период обнаруживает довольно заметное сходство с романом Золя, критиковавшего идею «механического» прогресса. Неслучайно, например, что в «Чевенгуре» наиболее «технократически» настроенный персонаж гибнет именно по вине машины: «В протоколе написали, что старший машинист-наставник получил смертельные ушибы при перегонке холодного паровоза, сцепленного с горячим пятисаженным стальным тросом. При переходе стрелки трос коснулся путевого фонарного столба, который упал и повредил своим кронштейном голову наставника, наблюдавшего с тендера тягового паровоза за прицепной машиной. Происшествие имело место благодаря неосторожности самого машиниста-наставника, а также вследствие несоблюдения надлежащих правил службы движения и эксплуатации». Точно так же многозначителен эпизод, когда по необъяснимой причине движутся навстречу друг другу и сталкиваются два состава с красноармейцами: «Паровоз – символ революции – сталкивается с другим паровозом, идущим по тому же пути в противоположную сторону»8. Наряду с образом «тупика», в платоновских произведениях получают распространение всякого рода пространственные аберрации: например, автор «Чевенгура» заставляет героя, Александра Дванова ехать по железной дороге в направлении, прямо противоположном тому, какое он должен был бы избрать в реальном географическом пространстве9; трудно предположить, что подобные «ошибки» писателя являлись непреднамеренными.
Характерной для Платонова становится и идея бесполезности труда перед лицом принципиально «инертного» бытия10. Коренное различие в том, что в романе Золя нет надежды на изменение мира: по его логике, интегрирующее начало в жизни отсутствует; такое мироощущение в пределе ведет к абсурду. При этом Золя – исключительно «серьезный» писатель, в произведениях которого смеховое начало, кажется, не присутствует вовсе. Что касается Платонова, его художественный мир трагикомичен, а пафос амбивалентен: безысходность существования не отменяет, а, напротив, стимулирует необходимость искать выход из «ветхого» мира в «новую» реальность.
Андрей Платонов: Проблемы интерпретации. Воронеж, 1995
(публикация на сайте www.platonovseminar.com)
![]()
1![]() См.: Naiman E. et Nesbet A. Mise en abîme: Платонов, Золя и поэтика труда // Revue des études slaves. Paris, 1992. V. 64. № 4.
См.: Naiman E. et Nesbet A. Mise en abîme: Платонов, Золя и поэтика труда // Revue des études slaves. Paris, 1992. V. 64. № 4.
2![]() Роман «Человек-зверь» цитируется по: Золя Э. Полн. собр. соч. М; Л., 1928. Т. 17.
Роман «Человек-зверь» цитируется по: Золя Э. Полн. собр. соч. М; Л., 1928. Т. 17.
3![]() Платоновские тексты цитируются по: Платонов А. Собрание. [В 8 т.] М., 2009–2011.
Платоновские тексты цитируются по: Платонов А. Собрание. [В 8 т.] М., 2009–2011.
4![]() Сравним волка Якима из платоновского «Рассказа о многих интересных вещах», медведя-молотобойца в повести «Котлован», а также персонажей рассказа «Мусорный ветер»: «Утром собака, как нищенка, испуганно пришла в помойное место. Лихтенберг сразу понял, увидя эту собаку, что она – бывший человек, доведенный горем и нуждою до бессмысленности животного».
Сравним волка Якима из платоновского «Рассказа о многих интересных вещах», медведя-молотобойца в повести «Котлован», а также персонажей рассказа «Мусорный ветер»: «Утром собака, как нищенка, испуганно пришла в помойное место. Лихтенберг сразу понял, увидя эту собаку, что она – бывший человек, доведенный горем и нуждою до бессмысленности животного».
5![]() Bethea D.M. The Shape of Apocalypse in Modern Russian Fiction. Princeton; New Jersey, 1989. P. 172.
Bethea D.M. The Shape of Apocalypse in Modern Russian Fiction. Princeton; New Jersey, 1989. P. 172.
6![]() Не исключено, что автор романа «Человек-зверь» в свою очередь испытал воздействие «Анны Карениной»; во всяком случае, описание мертвой Флоры (девственницы, в отличие от «блудницы» Анны) напоминает соответствующий эпизод в романе Толстого: «На столе казармы бесстыдно растянутое посреди чужих окровавленное тело, еще полное недавней жизни; закинутая назад уцелевшая голова с своими тяжелыми косами и вьющимися волосами на висках, и на прелестном лице, с полуоткрытым румяным ртом, застывшее странное, жалкое в губах и ужасное в остановившихся незакрытых глазах выражение».
Не исключено, что автор романа «Человек-зверь» в свою очередь испытал воздействие «Анны Карениной»; во всяком случае, описание мертвой Флоры (девственницы, в отличие от «блудницы» Анны) напоминает соответствующий эпизод в романе Толстого: «На столе казармы бесстыдно растянутое посреди чужих окровавленное тело, еще полное недавней жизни; закинутая назад уцелевшая голова с своими тяжелыми косами и вьющимися волосами на висках, и на прелестном лице, с полуоткрытым румяным ртом, застывшее странное, жалкое в губах и ужасное в остановившихся незакрытых глазах выражение».
7![]() Золя прямо сравнивает таинственный поезд с привидением. Забавно, что один из первых русских рецензентов романа «Человек-зверь» упрекал его автора – как натуралиста – за неточность деталей, в частности за то, что столь длительный пробег неуправляемого паровоза абсолютно недостоверен с технической точки зрения (Матвеев П. Атавизм в современном французском романе: «La bête humaine» par E. Zola // Русский вестник. 1890, № 211).
Золя прямо сравнивает таинственный поезд с привидением. Забавно, что один из первых русских рецензентов романа «Человек-зверь» упрекал его автора – как натуралиста – за неточность деталей, в частности за то, что столь длительный пробег неуправляемого паровоза абсолютно недостоверен с технической точки зрения (Матвеев П. Атавизм в современном французском романе: «La bête humaine» par E. Zola // Русский вестник. 1890, № 211).
8![]() Геллер М. Андрей Платонов в поисках счастья. Париж, 1982. С. 190.
Геллер М. Андрей Платонов в поисках счастья. Париж, 1982. С. 190.
9![]() Подробнее: Яблоков Е.А. На берегу неба (Роман Андрея Платонова «Чевенгур») СПб., 2001. С. 197.
Подробнее: Яблоков Е.А. На берегу неба (Роман Андрея Платонова «Чевенгур») СПб., 2001. С. 197.
10![]() См.: Naiman E. et Nesbet A. Mise en abîme.
См.: Naiman E. et Nesbet A. Mise en abîme.