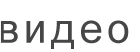В настоящей статье предполагается уточнить наблюдения над «контрапунктической» структурой поэмы «Москва–Петушки» и отметить некоторые особенности, которые могут оказать влияние на интерпретацию данного текста. Из соображений экономии места и времени практически не уделено внимания такому важному аспекту стиля ерофеевской поэмы, как пародийно-«карнавальное» начало; в силу этого наши суждения подчас могут звучать излишне «серьезно» и прямолинейно.
Исследователи постоянно отмечают значение «зеркальной» симметрии как доминирующего структурного принципа «Москвы–Петушков». Так, хронотоп поэмы определяется равновесием поступательного и возвратного движения; «уравновешивание» разнонаправленных импульсов в конечном счете создает образ «маятника», тем самым фактически низводя пространственно-временное перемещение на уровень иллюзии. Однако следует все же обратить внимание на «амплитуду», в которой это (пусть фиктивное) движение совершается. Традиционно считается, что пределы здесь заданы самим заглавием поэмы – и, соответственно, теми «зеркальными» отношениями, в которых пребывают образы Москвы и Петушков. Но у героя поэмы, Венички Ерофеева, как известно, двойная цель: «А там за Петушками, где сливается небо и земля и волчица воет на звезды, – там совсем другое, но то же самое: там в дымных и вшивых хоромах, неизвестный этой белесой, распускается мой младенец»1. Петушки предстают не окончательным, а «промежуточным» пунктом. Подлинной же целью (или, если угодно, сверхцелью), к которой стремится Веничка, оказывается горизонт – место, «где сливается небо и земля», некий космически-безграничный локус.
Две цели героя – собственно Петушки и пространство «за Петушками» – фактически противостоят друг другу; поэтому пространственная установка – должна считаться изначально амбивалентной. Персонажи, которые для Венички связаны с двумя этими топосами: «такая в Петушках» и «такой за Петушками», – оказываются, скорее, во взаимно «конфликтных» отношениях. Не случайно «дьяволица»2 (пусть невольно) препятствует герою в его традиционном намерении отправиться к «младенцу»: «В прошлую пятницу – верно, в прошлую пятницу она не пустила меня к нему поехать… Я раскис, ангелы, в прошлую пятницу, я на белый живот ее загляделся». Мы знаем, что за Петушки Веничка ездил «три года каждую неделю», однако знаем также, что 12 недель тому назад его путь пресекся: Петушки «ограничили пространство», стали конечным пунктом маршрута и камнем преткновения. Стало быть, подлинная «амплитуда» движения лежит не просто между двумя географическими точками (Москва – Петушки), сколь бы символичны они ни были, но, скорее, между «абсолютным центром» (Кремль) и «абсолютной периферией» (локус «младенца», «горизонт»)3.
Исследователи справедливо говорят об особом значении главы «Орехово-Зуево» (и, соответственно, данного топоса) в реализации «зеркальной» структуры поэмы4. Не случайно именно с достижением Орехова-Зуева фактически связывается наступление «апокалипсиса»: «всякая история имеет конец, и мировая история – тоже». Структура этого топонима мнимо изоморфна заглавию «Москва–Петушки», равно как и названиям большинства глав, поименованных в соответствии с железнодорожными перегонами; в этом контексте заглавие «Орехово-Зуево» означает именно фиктивное движение (или его отсутствие). Характерно, кстати, что два Митрича едут «покататься в карусели» как раз «в Орехово» – совершают целенаправленное движение ради того, чтобы пуститься по кругу.
Думается, в структуре поэмы небезразлична и сама семантика топонима «Орехово-Зуево». Первая его часть ассоциируется с теми гостинцами, которые – везет «младенцу»: орехи, награда «за букву “ю”», – в каком-то смысле «эквивалент» этой буквы. Что касается второй части, Зуево, она связана с глаголом «зуить», «зуиться» – суетиться, метаться туда и сюда5 (те же самые орехи герой тщетно разыскивает – суетится и мечется); уже в первой главе читаем: «Скучно тебе было в этих прогулках, Веничка, захотел ты суеты – вот и получай свою суету…»6. Вполне закономерно, что именно в Орехове-Зуеве после борьбы с толпой пассажиров «поступательный» импульс в его железнодорожном путешествии оказывается уравновешен «возвратным»; «вектор» сменяется «циклом», и герой фактически начинает ехать в обе стороны сразу; с этого момента в поэме начинают лавинообразно нарастать явления, сигнализирующие об обратимости не только пространства, но и времени.
Одно из заметных проявлений обратимости времени – неожиданное для самого Венички «омоложение», когда он внезапно обнаруживает, что окружающие принимают его за мальчика: «Наверное, еще уроки к завтрему не приготовил, мама ругаться будет. <…> От горшка два вершка, а уже рассуждать научился!» Рассуждая о том, с какой стороны должна находиться станция Покров и в какую сторону он все-таки едет, герой приводит в защиту своей логики следующий аргумент: «ведь я не мальчик». Кроме того, в рассуждениях Венички возникает уподобление пассажиров «грудным младенцам», причем себя он также отождествляет с младенцем7. Можно сказать, что принцип «обратимости» осложняется темой «возвращения в чрево», соотносящегося со смертью, раем и т. п.8; ср. распространенный мотив «второго рождения» в обрядах посвящения9. В этой связи пребывание героя-«младенца» в поезде может быть осмыслено как положение «между отцом и матерью» (ср. звуковое сходство: вагон – вагина)10; вспомним кстати о традиционных «материнских» коннотациях Москвы и фаллической символике петуха (Петушки)11.
С другой стороны, в плане реализации метафоры смерти-рождения важно учитывать актуализированное сходство поезда с тоннелем12. «У Ерофеева <…> взгляд сконцентрирован на субъективной реальности, концентрирующейся внутри вагона, поэтому жизнь в поэме протекает именно на перегонах, а не на платформах»13; но «после» Орехова-Зуева внутренность вагона воспринимается уже в качестве единственной реальности: «Человек не должен быть одинок – таково мое мнение. <…> А если он все-таки одинок, он должен пройти по вагонам».
Образ «тоннеля», пребывание в котором явно смертоносно (ср.: «Я лежал, как труп, в ледяной испарине…»), тоже вызывает вполне устойчивые ассоциации. Вспомним, что для эпохи, в которую создавалась ерофеевская поэма, характерно, в частности, появление немалого числа книг, посвященных проблемам смерти и умирания; правда, большинство самых известных публикаций на эту тему относится уже к 1970-м годам (пальма первенства, принадлежит, конечно, опубликованной в 1976 г. работе Р. Моуди «Жизнь после жизни»), но некоторые из популярных книг стали выходить уже в конце 1960-х – например, книга Э. Кюблер-Росс «О смерти и умирании». В исследованиях подобного рода было показано, что образ тоннеля – одна из устойчивых реалий «посмертного» бытия; при этом отмечались поразительные совпадения ощущений умиравших с древними эзотерическими описаниями загробного мира14. Впрочем, картины «клинической смерти», предвосхищающие мотивы ерофеевской поэмы, обнаруживаются и в классической литературе XIX в.; яркий тому пример – цитата из рассказа Л. Толстого, предпосланная данной статье в качестве эпиграфа. Существенное различие состоит, однако, в том, что в «классическом» загробном мире душа сохраняет представление о «должном» направлении движения (яркий свет в конце тоннеля и т. п.); в ерофеевской же поэме «загробное» странствование героя внутри поезда столь же двунаправленно, «возвратно-поступательно», как и движение в «большом» мире. Поэтому, например, «первая» смерть – (в вагоне) и его «прибытие» в Петушки синхронизированы и отождествлены.
С этого момента время и пространство «Москвы–Петушков» (в духе «Божественной Комедии» Данте), достигнув «крайней» точки, «выворачиваются». Важнейшим признаком этого становится смена интонации повествования и общего эмоционального колорита, что соответствует переходу героя от падения к восхождению (мотив «чистилища»). Попав будто бы «в Петушки» и вместе с тем неожиданно оказавшись гораздо дальше от Петушков, чем он предполагал (на Садовом кольце, на Красной площади и т. п.), Веничка обнаруживает все меньше точек соприкосновения с «гармонической сукой» и проявляет все больше общих черт с «младенцем». Здесь, кстати, стóит обратить внимание на употребленное героем при характеристике «младенца» слово «распускается», предполагащиее прямо противоположные толкования: 1) достигает высшей степени самореализации (= расцветает); 2) теряет форму, очертания, выраженные признаки (= растворяется). По существу, с главным героем происходит и то, и другое. В момент, когда совершается нападение четырех убийц, он находится уже фактически в «зачаточном» («эмбриональном») состоянии, поэтому речь должна идти не столько об убийстве его тела, сколько об убийстве души15. В этом смысле способ убийства («вонзили мне шило в самое горло») абсолютно точен: «В основе русского народного взгляда на душу лежит именно понятие дыхания: дух, дышать, дыхание, душа. У римлян spiritus (дуновение, дыхание, дух, душа) одного корня с глаголом spirare (дуть, веять, дышать). <...> У большинства народов слова дух, душа, дыхание, ветер – восходят к одному корню. Местожительство души – в нижней части шеи, где при дыхании “живчик бьется”»16. Сравним вместе с тем омонимическое значение слова spiritus – «дух/спирт», которое имеет прямое отношение к ведущей теме «Москвы–Петушков».
Заметим, что при всей брутальности четверки убийц в финальных сценах, для главного героя изначально и на протяжении всей поэмы свойственна устойчивая функция «пятого лишнего»: он систематически включается автором в группы из четырех человек и постоянно противопоставляется этим группам (хотя степень антагонизма широко варьируется). Так, в ресторане его враждебно встречают вначале «вышибала», затем «две женщины и один мужчина, все трое в белом»; у Венички четверо сожителей в орехово-зуевском общежитии, четверо подчиненных в бригаде, четверо собеседников во время «литературного разговора»17. Участников «восстания», кроме Венички, тоже четверо – по крайней мере, такое количество персонажей названо по именам: трое соратников и один пленный, Анатолий Иванович. В течение всей жизни герой поэмы оказывается «пятым», сверхштатным (ср. «пятый угол», «пятое колесо» и т.п.). Этому соответствует мотив замкнутого пространства, из которого он стремится вырваться: «метался в четырех стенах, ухватив себя за горло»; позже эта ситуация получит метафорическое отображение в словах черноусого: «порочный круг бытия – он душит меня за горло». Четверка убийц, «изгоняющих» душу Венички, фактически лишь доводит тенденцию до логического конца.
Весьма важное место в поэме занимает тема смерти, точнее – убийства ребенка; ср.: «или где-нибудь у 105-го километра я задремлю от вина, и меня, сонного, удавят, как мальчика? или зарежут, как девочку?» В итоге герой одновременно «удавлен» и «зарезан»18; и характерный жест – рука на горле), с помощью которого он стремится избавиться от тошноты, – это поза удавленного и зарезанного. Важно отметить, однако, что Веничка постоянно самоотождествляется не только с жертвами, но и с убийцами: с Димитрием – и Борисом Годуновым19, Дездемоной – и Отелло20. Это функциональное «неразличение» ярко подчеркнуто в эпизоде «репетиции» убийства / самоубийства: «Может, я там что репетировал? Да… В самом деле. Может, я играл в бессмертную драму “Отелло, мавр венецианский”? Играл в одиночку и сразу во всех ролях? Я, например, изменил себе, своим убеждениям: вернее, я стал подозревать себя в измене самому себе и своим убеждениям: я себе нашептал про себя, – о, такое нашептал! – и вот я, возлюбивший себя за муки, как самого себя, – я принялся себя душить. Схватил себя за горло и душу».
Сходную тенденцию формирует звучащая в первой главе фраза: «Не знаем же мы до сих пор: царь убил царевича Димитрия или наоборот?» Тема Димитрия становится одним из важнейших лейтмотивов поэмы, причем образ этот обставляется множеством «двойников», в ряду которых разница между жертвой и убийцей становится несущественной. Помимо реминисценций из пушкинского «Бориса Годунова» и, соответственно, аллюзий на Григория Отрепьева – Лжедимитрия Первого, в «Москве–Петушках» имеется такая деталь, как памятник Минину и Пожарскому, заставляющая вспомнить уже о «Втором» Лжедимитрии – Тушинском Воре21 (который, кстати, впервые явился в 1607 г. в городе с поразительно «ерофеевским» названием – Пропойск22. Кстати, историческое противостояние Тушина и Москвы и период Смуты могут восприниматься как пародийно «прототипическая» ситуация по отношению к «восстанию» в «Москве–Петушках»; дислокация «восставших» – к северу от Петушков (ср.: «Почему нас не давят с юга регулярные части?») – тоже своеобразно подчеркивает взаимное положение Тушина по отношению к Москве.
Явным воплощением «двоящегося» образа Димитрия предстают два Митрича – дедушка с внуком. Наконец, к тому же ряду должно быть отнесено появление брутального «варианта» Димитрия – царя Митридата, который внешне лишен каких бы то ни было «жертвенных» черт и сам намерен «резать» Веничку. Интересно, однако, что исторический Митридат IV Евпатор был «зарезан» по собственной воле – приказал рабу убить себя после того, как сын Митридата Фарнак поднял против него восстание23; ср. фразу в записных книжках – Ерофеева: «Почему закололся Митридат?»24. Мотив убийства-самоубийства и тема отцовско-сыновних отношений обрели здесь, как видим, весьма причудливое воплощение – и, судя по всему, для автора «Москвы–Петушков» именно такая запутанность была необходима.
В Орехове-Зуеве герой «удавлен, как мальчик»: ср. пролетающих по вагону Евтюшкина и Эринний, «погребающих» Веничку под собой, и рассказ о «затоптанных» мальчиках, которые поддались панике, «побежали вместе со стадом и были насмерть раздавлены – так и остались лежать в проходе, в посиневших руках сжимая свои билеты». В финальном эпизоде с шилом аналогия с Димитрием доводится до логического завершения; тем самым окончательно оформляется «тождество» Венички и его «младенца» – перед глазами героя возникает «густая красная буква “ю”». Согласно распространенному мнению25, «ю» – первая буква, которую младенец осваивает; но, как нам представляется, из контекста поэмы это вовсе не следует. Фраза «он знает букву “ю”» может быть понята и в том смысле, что «младенец» уже добрался до этой буквы, дошел до предпоследней буквы алфавита – стало быть, почти до конца. Фигурально выражаясь, ему остается «один шаг», одна ступень до завершения парадигмы. Данное впечатление еще усиливается, если воспринять соседствующие буквы «ю» и «я» не просто как звукообозначения, но и как самостоятельные слова (например, английское и русское местоимения).
Последний шаг героем сделан – и не сделан. Его заключительные слова «с тех пор я не приходил в сознание» могут интерпретироваться не только в непосредственно «психофизиологическом» значении, но и метафорически – в «инициационном» аспекте. (Ср. фразеологизм «войти в разум» – становиться умнее, опытнее26, а также приводимую В. Далем пословицу: «Малый да юродивый не в разуме» – сами не понимают, что делают»27) По аналогии с известным термином «противоирония», можно говорить о «противоинициации» героя – отказе от мира в ходе проникновения в его сущность. Парадоксальное сочетание «умудренности» Венички с его «омоложением» (невозможность далее бороться с тошнотой и отказ от «телесности») – реализация все той же модели «возвратно-поступательного» движения: движение «назад» в процессе движения «вперед». Заключительные слова «больше уже никогда не приду» тоже могут быть поняты двояко – как в логической связи с фразеологизмом «приходить в сознание», так и «буквально»: сравним мотивы «второго пришествия» (которое, таким образом, никогда не наступит) и «второго рождения», от которого герой фактически отказывается.
«Поэма кончается тем, что убивается ее текст – в горло рассказчика втыкается шило»28. При этом убийство, так сказать, «частично» – оно значимо как гибель «автора» данного текста. Прерванный путь от «ю» к «я» приводит к разрыву связей – означает «коллапс» и «самозамыкание» субъекта, исчерпавшего «текстопорождающие» потенции. Текст существует теперь «сам по себе», а породивший его субъект – «сам по себе», причем в ином качестве. «Смерть» героя в конечном счете означает его превращение в абсолютное «Я», оформление абсолютного «субъекта», связи которого с миром прерваны; соответственно, исчезает адекватный герою «слушатель», собеседник. Монолог прекращается без надежды на возобновление.
Архетипические структуры художественного сознания. Екатеринбург, 2002. Вып. 3.
![]()
1![]() Тексты Ерофеева цит. по изд.: Ерофеев В.В. Оставьте мою душу в покое: Почти все. М., 1995.
Тексты Ерофеева цит. по изд.: Ерофеев В.В. Оставьте мою душу в покое: Почти все. М., 1995.
2![]() Ср. тождество реплик при знакомстве – с «дьяволицей»: «– Так это вы: Ерофеев? <…> – Ну, конечно! Еще бы не я!» – и в сцене «искушения»:
Ср. тождество реплик при знакомстве – с «дьяволицей»: «– Так это вы: Ерофеев? <…> – Ну, конечно! Еще бы не я!» – и в сцене «искушения»:
- «– Так это ты, Ерофеев? – спросил Сатана.
– Конечно, я. Кто же еще?..»
3![]() Подтверждая эту модель, можно было бы отметить особые взаимоотношения между локусами Курского вокзала и Петушков, но специально останавливаться здесь на этом вопросе мы не будем.
Подтверждая эту модель, можно было бы отметить особые взаимоотношения между локусами Курского вокзала и Петушков, но специально останавливаться здесь на этом вопросе мы не будем.
4![]() См., напр.: Ястремский С. Хождение (не)святого Венедикта в Святую Землю: «Москва – Петушки» как текст авторского тела // «Москва – Петушки» Вен. Ерофеева. Тверь, 2000. С. 13; Егоров Е.А. Поэтика заглавия поэмы Вен. Ерофеева «Москва – Петушки» // Там же. С. 31.
См., напр.: Ястремский С. Хождение (не)святого Венедикта в Святую Землю: «Москва – Петушки» как текст авторского тела // «Москва – Петушки» Вен. Ерофеева. Тверь, 2000. С. 13; Егоров Е.А. Поэтика заглавия поэмы Вен. Ерофеева «Москва – Петушки» // Там же. С. 31.
5![]() Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1981. Т. 1. С. 696.
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1981. Т. 1. С. 696.
6![]() Заметим, кстати, что именно в Орехово-Зуеве Веничка некогда обрел первое печальное доказательство того, что им «безгранично расширена сфера интимного».
Заметим, кстати, что именно в Орехово-Зуеве Веничка некогда обрел первое печальное доказательство того, что им «безгранично расширена сфера интимного».
7![]() В плане смешения функций взрослого и ребенка показателен сон героя, где его «любимый первенец» (т.е. в буквальном понимании – сын, изофункциональный «младенцу») Вадим Тихонов предстает отнюдь не ребенком, но приблизительным ровесником Венички и его «правой рукой» («канцлером»).
В плане смешения функций взрослого и ребенка показателен сон героя, где его «любимый первенец» (т.е. в буквальном понимании – сын, изофункциональный «младенцу») Вадим Тихонов предстает отнюдь не ребенком, но приблизительным ровесником Венички и его «правой рукой» («канцлером»).
8![]() Ястремский С. Указ. соч. С. 13.
Ястремский С. Указ. соч. С. 13.
9![]() Элиаде М. Аспекты мифа. М., 1995. С. 84–90. «Смерть в сознании первобытного общества является рождающим началом <…> Образ рождающей смерти вызывает образ круговорота <…> Три наших понятия – “смерть”, “жизнь”, “снова смерть” – для первобытного сознания являются единым взаимно-пронизанным образом. Поэтому “умереть” значит на языке архаических метафор “родить” и “ожить”, а “ожить” – умереть (умертвить) и родить (родиться)» (Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. С. 63–64).
Элиаде М. Аспекты мифа. М., 1995. С. 84–90. «Смерть в сознании первобытного общества является рождающим началом <…> Образ рождающей смерти вызывает образ круговорота <…> Три наших понятия – “смерть”, “жизнь”, “снова смерть” – для первобытного сознания являются единым взаимно-пронизанным образом. Поэтому “умереть” значит на языке архаических метафор “родить” и “ожить”, а “ожить” – умереть (умертвить) и родить (родиться)» (Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. С. 63–64).
10![]() В плане подобных ассоциаций особая роль принадлежит «эдиповским» мотивам, которые в поэме намекают на фрейдистскую интерпретацию данного мифа: «Там с кем-нибудь обручили собственную дочь?» Ср. также ерофеевское эссе «Василий Розанов…», где образ Эдипа предстает как своего рода автопроекция героя-рассказчика, который, как и Эдип, противопоставлен миру «неподлинных» чувств: «Они в полном неведении. “Чудовищное неведение Эдипа”, только совсем наоборот. Эдип прирезал отца и женился на матери по неведению, он не знал, что это его отец и мать, он не стал бы этого делать, если бы знал. А у них – нет, у них не так. Они женятся на матерях и режут отцов, не ведая, что это, по меньшей мере, некрасиво. И знал бы ты, какие они все крепыши, теперешние русские».
В плане подобных ассоциаций особая роль принадлежит «эдиповским» мотивам, которые в поэме намекают на фрейдистскую интерпретацию данного мифа: «Там с кем-нибудь обручили собственную дочь?» Ср. также ерофеевское эссе «Василий Розанов…», где образ Эдипа предстает как своего рода автопроекция героя-рассказчика, который, как и Эдип, противопоставлен миру «неподлинных» чувств: «Они в полном неведении. “Чудовищное неведение Эдипа”, только совсем наоборот. Эдип прирезал отца и женился на матери по неведению, он не знал, что это его отец и мать, он не стал бы этого делать, если бы знал. А у них – нет, у них не так. Они женятся на матерях и режут отцов, не ведая, что это, по меньшей мере, некрасиво. И знал бы ты, какие они все крепыши, теперешние русские».
11![]() Вспомним также о каламбурной этимологизации топонима Курск – оказывается, герой курсирует между городом Петушки и вокзалом с «куриным» названием.
Вспомним также о каламбурной этимологизации топонима Курск – оказывается, герой курсирует между городом Петушки и вокзалом с «куриным» названием.
12![]() Особенно если учесть подчеркнутую героем темноту за окнами, вызывающую, например, ассоциации с метрополитеном.
Особенно если учесть подчеркнутую героем темноту за окнами, вызывающую, например, ассоциации с метрополитеном.
13![]() Власов Э. Бессмертная поэма Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки»: Спутник писателя // Ерофеев В.В. Москва–Петушки: С комментариями Эдуарда Власова. М., 2000. С. 174.
Власов Э. Бессмертная поэма Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки»: Спутник писателя // Ерофеев В.В. Москва–Петушки: С комментариями Эдуарда Власова. М., 2000. С. 174.
14![]() Образ своего рода «тоннеля» зафиксирован в имеющей многовековую историю «Тибетской книге мертвых»: «Во время движения через темноту и далее к выходу – слышны шумы, громы, колокола, звон… Напомним, что миг или время умирания … – это (как считают буддисты) в сущности смертный обморок, когда, подобно тому, как это случается в глубоком трансе, наше дыхание становится на какое-то время внутриутробным. То есть таким, каким оно было во время нашего внутриутробного существования, до рождения. Ведь младенец не дышит легкими, и сердце может биться очень редко либо вообще не биться (как в глубоком трансе). Вот почему этот обморок смерти ламаисты отсчитывают от последнего вдоха до последнего выдоха. Не исключено, что движение в темноте, туннеле – это воспоминания возвращенной утробы, но только в обратном порядке. Не исключено, что это – возвращение к сознанию, в котором мы находились еще внутри матери» (Тибетская книга мертвых: Бардо тёдол. М., 1992. С. 24; см. также: Лаврин А. Хроники Харона: Энциклопедия смерти. М., 1993. С. 113). Сравним подчеркнутый в ерофеевской поэме «шумовой» антураж при описании пустой электрички: «Поезд все мчался куда-то сквозь дождь и черноту. Странно было слышать хлопанье дверей во всех вагонах: оттого странно, что ведь ни в одном вагоне нет ни души» (с. 126); эти звуки дополняются «бубнами и кимвалами», а также «хохотом Суламифи».
Образ своего рода «тоннеля» зафиксирован в имеющей многовековую историю «Тибетской книге мертвых»: «Во время движения через темноту и далее к выходу – слышны шумы, громы, колокола, звон… Напомним, что миг или время умирания … – это (как считают буддисты) в сущности смертный обморок, когда, подобно тому, как это случается в глубоком трансе, наше дыхание становится на какое-то время внутриутробным. То есть таким, каким оно было во время нашего внутриутробного существования, до рождения. Ведь младенец не дышит легкими, и сердце может биться очень редко либо вообще не биться (как в глубоком трансе). Вот почему этот обморок смерти ламаисты отсчитывают от последнего вдоха до последнего выдоха. Не исключено, что движение в темноте, туннеле – это воспоминания возвращенной утробы, но только в обратном порядке. Не исключено, что это – возвращение к сознанию, в котором мы находились еще внутри матери» (Тибетская книга мертвых: Бардо тёдол. М., 1992. С. 24; см. также: Лаврин А. Хроники Харона: Энциклопедия смерти. М., 1993. С. 113). Сравним подчеркнутый в ерофеевской поэме «шумовой» антураж при описании пустой электрички: «Поезд все мчался куда-то сквозь дождь и черноту. Странно было слышать хлопанье дверей во всех вагонах: оттого странно, что ведь ни в одном вагоне нет ни души» (с. 126); эти звуки дополняются «бубнами и кимвалами», а также «хохотом Суламифи».
15![]() Вспомним эпизод «убийства души» в эссе «Василий Розанов…»: выстрелив в себя из трех пистолетов, герой «опрокинулся на клумбу с душой, пронзенной навылет». Ср. также проклятие героя-рассказчика, в котором, как в «Москве–Петушках», реализован мотив «души в горле»: «Опали им гортань и душу, Творец, они не заметят даже, что Ты опалил им гортань и душу, все равно – опали!» Отметим в этой связи признание Венички: «я болен душой, но не подаю и вида <…> с тех пор, как помню себя, я только и делаю, что симулирую душевное здоровье».
Вспомним эпизод «убийства души» в эссе «Василий Розанов…»: выстрелив в себя из трех пистолетов, герой «опрокинулся на клумбу с душой, пронзенной навылет». Ср. также проклятие героя-рассказчика, в котором, как в «Москве–Петушках», реализован мотив «души в горле»: «Опали им гортань и душу, Творец, они не заметят даже, что Ты опалил им гортань и душу, все равно – опали!» Отметим в этой связи признание Венички: «я болен душой, но не подаю и вида <…> с тех пор, как помню себя, я только и делаю, что симулирую душевное здоровье».
16![]() Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Харьков, 1916. Т. 1. С. 82.
Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Харьков, 1916. Т. 1. С. 82.
17![]() Впрочем, здесь необходимо учитывать отношения двойничества между двумя Митричами, а также между черноусым и «женщиной сложной судьбы».
Впрочем, здесь необходимо учитывать отношения двойничества между двумя Митричами, а также между черноусым и «женщиной сложной судьбы».
18![]() Власов Э. Указ. соч. С. 246.
Власов Э. Указ. соч. С. 246.
19![]() Ср.: «Кувыркался из угла в угол, как великий трагик Федор Шаляпин, с рукою на горле, как будто меня что душило…» – в этом явно усматривается аллюзия на созданный Шаляпиным образ Бориса Годунова (Власов Э. Указ. соч. С. 184).
Ср.: «Кувыркался из угла в угол, как великий трагик Федор Шаляпин, с рукою на горле, как будто меня что душило…» – в этом явно усматривается аллюзия на созданный Шаляпиным образ Бориса Годунова (Власов Э. Указ. соч. С. 184).
21![]() Ср. важнейший мотив двух «самозванцев», Лжедимитрия 1-го и Лжедимитрия 2-го, в неоконченной драме Ерофеева «Фанни Каплан».
Ср. важнейший мотив двух «самозванцев», Лжедимитрия 1-го и Лжедимитрия 2-го, в неоконченной драме Ерофеева «Фанни Каплан».
22![]() Отметим важную метафору жизни как похмельной тошноты (пьянство – «чтобы не так тошнило»); вспомним и опасение Венички, что его начнет «тошнить со всех трех сторон» – физической, духовной и мистической.
Отметим важную метафору жизни как похмельной тошноты (пьянство – «чтобы не так тошнило»); вспомним и опасение Венички, что его начнет «тошнить со всех трех сторон» – физической, духовной и мистической.
23![]() Словарь античности. М., 1994. С. 358.
Словарь античности. М., 1994. С. 358.
24![]() Этот вполне «серьезный» вопрос, по-видимому, имеет источником фразу из «Путешествии Онегина»: «Там закололся Митридат» (Власов Э. Указ. соч. С. 535).
Этот вполне «серьезный» вопрос, по-видимому, имеет источником фразу из «Путешествии Онегина»: «Там закололся Митридат» (Власов Э. Указ. соч. С. 535).
26![]() Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А.И. Молоткова. М., 1986. С. 88.
Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А.И. Молоткова. М., 1986. С. 88.
27![]() Даль В.И. Указ. соч. Т. 4. С. 53.
Даль В.И. Указ. соч. Т. 4. С. 53.
28![]() Ястремский С. Указ. соч. С. 16.
Ястремский С. Указ. соч. С. 16.