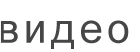Исследователями традиционно подчеркивается двойственное эмоциональное впечатление, которое вызывает мир «Чевенгура»1; однако «механизм», создающий эффект амбивалентного, «лирико-сатирического» авторского отношения к изображаемому, до настоящего времени не получил целостного описания. Настоящая статья направлена на решение (хотя бы частичное) этой задачи. Как мы попытаемся показать, структурной основой художественного мира романа «Чевенгур» является принцип зеркальной симметрии.
1
«Зеркальность», реализованная на различных уровнях, обусловливает образ универсума, порождающего диаметрально противоположные интерпретации (в равной степени верные и неверные), однако все же не поддающегося рационализации; в индивидуально-психологическом аспекте эта коллизия описывается применительно к главному герою, Александру Дванову: «Сколько он ни читал и ни думал, всегда у него внутри оставалось какое-то порожнее место – та пустота, сквозь которую тревожным ветром проходит неописанный и нерассказанный мир»2.
Бытие у Платонова гносеологически вполне «податливо», поскольку при всех условиях незатронутой остается его глубинная сущность, – но по той же самой причине оказывается, что «на всякое действие есть противодействие»; тем самым словно отменяется один из основных законов формальной логики – закон противоречия3. Заметим, речь идет отнюдь не только о теоретической, умозрительной деятельности – даже практика не снижает степени неопределенности и подтверждает правоту, кажется, любой теории. Характерный пример – эпизод партсобрания, когда оратор заявляет: «Я говорю – когда революция, тогда нет объективных условий <...> – Правильно! – покрывало собрание. Все равно, если б было и неправильно, то людей находилось так много, что они устроили бы по-своему». Вспомним и рассуждения героя «Города Градова»: «Стоит ли <...> измышлять изобретения, раз мир диалектичен, сиречь для всякого героя есть своя стерва? Не стоит! <...> Не есть ли сам закон или другое присутственное установление – нарушение живого тела Вселенной, трепещущей в своих противоречиях и так достигающей всецелой гармонии?»4
Подобная каламбурная интерпретация законов диалектики (актуализация борьбы противоположностей при разрыве их единства) встречается в платоновских произведениях неоднократно. Так, в «московском» эпизоде «Чевенгура» сосед Софьи Александровны характеризуется следующим образом: «Посредством равномерного чтения вслух какой-то рабфаковец вбирал в свою память политическую науку. Раньше бы там жил, наверно, семинарист и изучал бы догматы вселенских соборов, чтобы впоследствии, по законам диалектического развития души, прийти к богохульству».
Вспомним и «метаморфозы» героя повести «Ювенильное море» Умрищева, который «сумел убедить кого-то в районном городе, что он может со временем, по правилам диалектического материализма, обратиться в свою противоположность; <...> Умрищев стал поступать наоборот своим мыслям: как только что надумает, так вспомнит, что его природа – это ведь оппортунизм, и совершит действие наоборот».
Многие внешне парадоксальные формулировки, встречающиеся в романе, художественно целесообразны именно потому, что направлены на воплощение идеи «зеркальности»; например: «Русский – это человек двухстороннего действия. Он может жить и так и обратно и в обоих случаях остается цел» (ср. характеристику толстовского Платона Каратаева: «Часто он говорил совершенно противоположно тому, что он говорил прежде, но и то и другое было справедливо»). Показательно отношение мужиков к власти: «Нам хоть власть, хоть и не надо, – объяснял с обеих сторон рябой. – С середины посмотреть – концов не видать, с конца начать – долго. Вот ты и подумай тут...» Характерна и ситуация «испорченного телефона» в эпизоде с «пересказанной» Луем Гопнеру запиской Копенкина. Слова последнего: «Здесь коммунизм, и обратно, – нужно, чтоб ты скорей прибыл», – передаются следующим образом: «Там товарищ Копенкин написал, что коммунизм и обратно». Просторечное «обратно» (т.е. «опять», «снова») обретает значение «наоборот», «напротив» – получается, что в Чевенгуре существуют одновременно и коммунизм, и нечто прямо ему противоположное. Причем Копенкин, не знающий о том, как Луй исказил его собственные слова, затем и сам использует конструкцию, «созданную» Луем: «Вечером Копенкин нашел Дванова, он давно хотел его спросить, что в Чевенгуре – коммунизм или обратно». Интересно, что еще до истории с Луем, в эпизоде, когда Копенкин и Дванов «штурмуют» восставшую Калитву, сходный оборот проскальзывает и в речи повествователя: «Мужики думали и так и иначе, а отвечали честно».
Выразительной моделью «обратимого» мира предстает «памятник революции»: «Лежачая восьмерка означает вечность времени, а стоячая двухконечная стрела – бесконечность пространства». Точкой вертикальной симметрии в художественном мире романа оказывается озеро Мутево (эпицентр «детской родины»), точкой симметрии горизонтальной – Чевенгур (утопия / ухрония). Речь идет о симметричной обратимости не только пространства, но и времени. В платоновской концепции универсума (ср. развитие идей О. Шпенглера в статье «Симфония сознания» ) пространство предстает как «мертвое» время. Поэтому движение в пространстве неэффективно, циклично – недаром в финале «Чевенгура» в исходную точку пространства-времени возвращаются не только Саша Дванов, но и Захар Павлович с Прошкой; «подлинное» движение требует смены парадигмы – перехода от «горизонтали» («погони за горизонтом») к «вертикали». При этом конкретное направление вертикального движения не столь существенно: движение «вглубь» (озеро) тождественно движению «вверх» (небо). Автор активно соединяет мотивы воды и неба, стремится снять противопоставление «глубины» и «высоты», верха и низа (ср. название стихотворного сборника Платонова – «Голубая глубина»); хронотоп романа обусловлен важной структурообразующей метафорой – отождествлением «поднебесного» и «подводного» миров – «посюсторонней» и «потусторонней» реальности. Таким образом, с самого начала подготавливается финал «Чевенгура»: погружение в озеро / вознесение на небо. Рыбак «видел смерть как другую губернию, которая расположена под небом, будто на дне прохладной воды»; его сын показан «на черте сельского горизонта, он стоял над кажущимся глубоким провалом, на берегу небесного озера»; «Дванов стоял <…>, наблюдая прохладное озеро неба над собой»; свет луны «озарял землю, как подводное дно».
Три основных образа пространства – степь, вода и небо – отождествлены по признакам «гладкости» и «пустоты». Горизонт – один из важнейших локусов романа – участвует в структурировании вертикальной симметрии, а в горизонтальной плоскости имеет традиционное культурное значение недостижимого рубежа: «Вечернее небо виднелось продолжением степи – конь под чевенгурцем глядел на бесконечный горизонт как на страшную участь своих усталых ног. Степь нигде не прекращалась, только к опущенному небу шел плавный затяжной скат, которого еще ни один конь не превозмог до конца».
А главный герой романа анархиста Мрачинского – «современный Агасфер», «человек, живущий один на самой черте горизонта», не только «двойник» главного героя «Чевенгура», но как бы автоописание художественной модели мира. «На урезе неба и земли»5 проезжают телеги, «увозя на себе маленьких деревенских людей мимо облаков». «На горизонте» же является чевенгурцам некто, принимаемый ими за мессию («По горизонту степи, как по горе, шел высокий дальний человек, все его туловище было окружено воздухом») – прошедший, однако, «мимо» коммунизма: «Мы думали, он к нам идет, а он скрылся». Таким образом, «мессия» напоминает не столько Христа, сколько наказанного вечным скитанием Агасфера.
Структурным подобием горизонта (образ «грани», возвышенного рубежа) предстает в романе водораздел – не случайно перспектива крестьянского благоденствия связывается именно с переселением на водоразделы. В то же время заметим, что горизонт и водораздел предстают как реалии не только «внешние», топографические, но и «внутренние»: гидротехнические понятия у Платонова служат метафорами психофизиологических процессов. Например, сердце персонажа сравнивается с «постоянно содрогающейся плотиной от напора вздымающегося озера чувств. Чувства высоко поднимались сердцем и падали по другую сторону его, уже превращенные в поток облегчающей мысли. Но над плотиной всегда горел дежурный огонь того сторожа, который не принимает участия в человеке, а лишь подремывает в нем за дешевое жалованье. Этот огонь позволял иногда Дванову видеть оба пространства – вспухающее теплое озеро чувств и длинную быстроту мысли за плотиной, охлаждающейся от своей скорости».
«Сторож» здесь существует как бы на «водоразделе» души. Вода – метафора бессознательного (ср. фрейдовское «Оно»), поэтому финальное погружение в озеро – это и погружение в эмоциональную сферу, в «душевность», отказ от «облегчающей мысли», от утопической простоты. По существу, развивается основной образ «Епифанских шлюзов», заключенный в самом названии этой повести и связанный с этимологией топонима (греч. «епифания» – откровение). Принцип симметричной обратимости наглядно реализуется и в структуре художественного времени: «Сколько ни жил Захар Павлович, он с удивлением видел, что он не меняется и не умнеет – остается ровно таким же, каким был в десять или пятнадцать лет <...> Свою будущую жизнь он раньше представлял синим глубоким пространством – таким далеким, что почти не существующим. Захар Павлович знал вперед, что чем дальше он будет жить, тем это пространство непережитой жизни будет уменьшаться, а позади – удлиняться мертвая растоптанная дорога. И он обманулся: жизнь росла и накоплялась, а будущее впереди тоже росло и простиралось – глубже и таинственней, чем в юности, словно Захар Павлович отступал от конца своей жизни либо увеличивал свои надежды и веру в нее». «Реализованная» метафора жизненного пути воплощает здесь «зеркальный» эффект «удаления-приближения».
Весьма показателен также мотив смерти как «обратного рождения» (regressus ad uterum), предваряемого «возвращением в детство». Покинув Чевенгур, Дванов «звук знакомого колокола <...> услышал как время детства»; ср. в повести «Дар жизни»: «Детство лежит подобно озеру в безветренной стране нашей памяти и образ его хранится внутри человека неизменным до самой кончины». «Умирая, Дванов воскрешает животворный смысл воды, превращая озеро-могилу в озеро-утробу <...> он воссоединяется не только с отцом <...> но и с матерью. Он возвращается в утробу матери-земли (Мутево-мать), из которой появились на свет и он сам, и его отец, и все остальные люди»6. Погружение в озеро (т. е. движение вниз) равно «выходу» из озера (т.е. движению вверх): «утопание» (ср. каламбурную этимологизацию слова «утопия» по глаголу «утопнуть») эквивалентно «выныриванию» на поверхность.
Воплощению той же идеи подчинена сцена смерти машиниста-наставника. Тот же мотив присутствует в подтексте эпизода пребывания Дванова и Копенкина в «ревзаповеднике»: «нонконформист» Пашинцев живет в «пещере» (ср. современное понятие «андеграунд»). Однако заметим, что образ пещеры имеет устойчивые мифологические коннотации: это сакральное укрытие, хранилище остатков «первобытной» стихии (ср. слова Пашинцева: «храню революцию в нетронутой геройской категории»), лоно земли, ее vagina, детородное место и могила одновременно7. Данный мотив найдет развитие в «Котловане»; ср. также «синтетический» образ воды / земли в одном из вариантов финала повести «Джан»: «Суфьян сыграл немного на дутаре и спел про умную, сильную рыбу, плавающую в черной, глубокой земле».
Важным признаком «зеркальной» структуры выглядит временная «неоднородность» художественного универсума «Чевенгура»: платоновские герои перемещаются не только между топосами, но и между хронотопами (преодоление пространства тождественно проникновению границ между «потоками» времени). Например, Сербинову, попавшему в Чевенгур, «представлялось, что не только пространство, но и время отделяет его от Москвы». Чевенгур лежит в ином хронотопе, нежели остальной мир, так что, приехав из Москвы и преодолев пространство, Сербинов преодолевает и время – попадает в «пропавший» уезд (ср. мотив «невидимого» града Китежа). Дванов же является в Чевенгур «из прошлого» (фамилия Дванов осмысливается в связи со словом «давно») – и из этого же «прошлого» придет в финале Захар Павлович, чтобы повторить диалог с Прошкой, уже прозвучавший однажды много лет назад. В отношения персонажей вносятся дополнительные акценты: Сербинов предстает «двойником» Дванова, явившимся к нему «из будущего»; Дванов и Сербинов – как бы два автопортрета Платонова, относящиеся к разным эпохам (начало и конец 1920-х годов) и топосам (Воронеж – Москва), которые встречаются в утопическом «безвременье» Чевенгура.
Роман завершается идеей «поисков Дванова»: эти слова словно обретают характер некоего лозунга. Однако «раздвоенность» самого главного героя состоит не только в наличии «внешних» двойников, но в первую очередь – в его внутренней противоречивости. Разумеется, она обусловлена не столько индивидуально-психологическими факторами, сколько общефилософской концепцией автора; ср. суждение А. Бергсона: «Самая живая мысль застывает в выражающей ее формуле. Слово обращается против идеи. Буква убивает дух»8. Подчас «раздвоенность» получает вполне наглядное выражение: «Дванов разговорился сам с собой». Платонов не просто актуализирует в говорящем две «сущности» – важно, что они взаимно противоречивы; ср. поведение Чепурного: «Человек иногда приостанавливался на ступеньках и делал себе возражения <...> Человек явно мучился». Сходен «автодиалог» героя «Эфирного тракта» Фаддея Попова: «Поспешим, Фаддей! Поспешим, сатана души моей!.. <...> Довольно бормотать, ты мне мешаешь, дурак!..»
Афоризм Захара Павловича: «Большевик должен иметь пустое сердце, чтобы туда все могло поместиться», – провозглашает, по существу, гносеологический «конформизм», статус «маленького зрителя». Мотив «евнуха души» принципиально важен не только для восприятия Дванова, но и для уяснения самой сути платоновского стиля; позиция, подобная той, о которой идет речь в «Чевенгуре» в связи с образом «маленького зрителя», по мнению исследователей, входит как необходимый компонент в образ автора, моделирует «ракурс» читательского восприятия. В. Подорога дает платоновскому «евнуху души» следующую характеристику: «Он тот, кто наблюдает и свидетельствует, движется в своем наблюдении параллельно изображаемому, ни выше, ни ниже, ни поперек, а именно параллельно, никогда не пересекаясь с ним, ибо, по определению, он лишен права на то, чтобы быть нормальным чувствующим существом, тем более вносить какой-либо свой, опять же нормальный и поэтому разумный порядок в им наблюдаемое. <...> Платоновские тексты «живут» этим постоянно возобновляемым несоответствием между спонтанным чтением и формой изображения, которую контролирует платоновский наблюдатель»9. Образ «маленького зрителя» соотносится с фрагментом платоновской статьи «Пролетарская поэзия»: «Точка объективного внеотносительного наблюдения совпадает с центром совершенной организации. Только отойдя от мира и от себя, можно увидеть, что есть все это и чем хочет быть все это».
Продолжая анализ «зеркальных» структур в романе, упомянем также один из традиционных примеров – эпизод столкновения поездов, один из которых ведет паровоз, управляемый Двановым; символический смысл этой сцены ясен с учетом платоновского письма 1922 г. к жене: «Фраза о том, что революция – паровоз истории, превратилась во мне в странное и хорошее чувство: вспоминая ее, я очень усердно работал на паровозе. <...> Позже слова о революции-паровозе превратили для меня паровоз в ощущение революции». В платоновском романе «паровоз – символ революции – сталкивается с другим паровозом, идущим по тому же пути в противоположную сторону» Между прочим, в свете метафоры «паровоз истории» особое значение приобретает и образ обходчика – «путевого сторожа»: «Железнодорожные будки всегда привлекали Дванова своими задумчивыми жителями – он думал, что путевые сторожа спокойны и умны в своем уединении». Путевой сторож воспринимается как человек, причастный вечности – нечто вроде «внешнего» эквивалента «маленького зрителя»10.
Добавим, что в платоновском романе движению паровоза придается чаще всего нецелесообразный, абсурдный характер – независимо от того, идет речь о символе или вполне конкретном локомотиве. Показательно, например, что плакат, висящий на площадке вагона: «Советский транспорт – это путь для паровоза истории», – вызывает у его «читателя» следующие ассоциации: «Он представил себе хороший паровоз со звездой впереди, едущий порожняком по рельсам неизвестно куда», – т. е. движущийся бессмысленно и бесполезно. Более того, как нам уже приходилось писать, Платонов постоянно «заставляет» Александра Дванова двигаться по железной дороге в направлении, диаметрально противоположном тому, какое требуется на самом деле: трудно поверить, что писатель случайно допустил столько «однотипных» ошибок; цель автора ясна – моделируемая ситуация по сути сходна с мотивом столкновения поездов, воплощает принцип «и так, и обратно». Отметим, кстати, подобное явление в повести «Эфирный тракт»; здесь Кирпичников с семьей едет на автомобиле из Москвы в Воронежскую губернию, т.е. вроде бы на юг, однако, описывая окружающие героя ландшафты, повествователь говорит: «На север от Москвы дождеватели исчезали».
Многие персонажи романа реализуют образ хаотичного движения – лишенного целесообразности и непредсказуемого; при этом попытки изменить ситуацию выглядят не просто бесполезными, но бессмысленными в принципе. Показателен диалог председателя губисполкома Шумилина с «бредущими» – когда один из них говорит: «Мы куда попало идем, где нас окоротят. Поверни нас, мы назад пойдем», Шумилин советует: «Тогда идите лучше вперед». Поскольку «вперед» и «назад» с позиции странников ничем не различаются, то эта попытка совмещения двух «логик» абсурдна. Характерно и поведение Копенкина, который «действовал без плана и маршрута, а наугад и на волю коня; он считал общую жизнь умней своей головы». По мнению исследователей, подобные качества персонажей «Чевенгура» имеют прямое отношение к художественной структуре романа в целом: «В платоновской прозе очевиден отказ от изначального проектирования событий, сюжетных линий и планов поведения персонажей – все движется само собой. Изображаемое деперсонализируется, депсихологизируется и не определяется никакой внутренней телеологией»11.2
Явление «зеркальности» эффектно проявляется и на уровне художественной речи. О своеобразии платоновского стиля сказано немало, однако для нас наиболее показательными будут логически парадоксальные фразы, построенные по модели каламбура, в которых реализуется «столкновение» смыслов. Примечательно, что подобные конструкции далеко не всегда сопряжены с комическим эффектом: зачастую они звучат в таких ситуациях, применительно к которым «смеховое» начало неуместно. Приведем ряд примеров подобного рода, сопровождая их объяснениями.- О бобыле Захар Павлович думает, что тот «так и умер, ни в чем не повредив природы». Поскольку подобный образ жизни бобыля осуждается, то глагол «повредить» в контексте данного эпизода обретает положительное значение («исправить»).
- На пальце мертвого отца Саша видит «обручальное кольцо в честь забытой матери». Соседство слов «в честь» и «забытой» создает впечатление, будто кольцо надето не ради памяти, а именно для того, чтобы вернее забыть мать: во всяком случае, ни то, ни другое значение не может быть отброшено.
- О машинисте-наставнике: «Он так больно и ревниво любил паровозы, что с ужасом глядел, когда они едут. Если бы его воля была, он все паровозы поставил бы на вечный покой». «Вечный покой» – синоним смерти, поэтому оказывается, что высшим проявлением «ревнивой любви» машиниста-наставника к паровозам было бы их «умерщвление». Определение «сомневающийся в живых людях старичок» тоже намекает на глубинную «смертоносность» мироощущения.
- Фраза Прохора Абрамовича Дванова: «Чем ребят гуще, тем старикам помирать надежней», – парадоксальна, поскольку ее «положительный» смысл: «умереть с надеждой на остающихся в живых» (т.е. на детей), – опосредуется травестийным значением «умереть надежно», т.е. «прочно», «основательно» и как бы «безвозвратно».
- Сцена смерти машиниста-наставника: «В протоколе написали, что старший машинист-наставник получил смертельные ушибы <...> Происшествие имело место благодаря неосторожности самого машиниста-наставника». На первый взгляд явно неподходящее к ситуации слово «благодаря» может быть воспринято не только как ошибка составителей протокола, но и как авторская характеристика: смерть персонажа как бы представляется желательной.
- В споре с «партийным человеком» Захар Павлович предлагает «имущество унизить» и «людей оставить без призора». Это состояние – «без призора» – герою кажется идеальным, однако для читателя естественна ассоциация со словом «беспризорный», имеющим устойчиво негативное значение.
- В эпизоде в Ханских Двориках Достоевский говорит, что он «похудел от руководства революцией в своем районе. <...> – Понятно: ты здесь всем текущим событиям затычка – поддерживал Копенкин достоинство Достоевского». Несмотря на благожелательность Копенкина, его высказывание резко контрастирует с эксплицированным намерением: неизбежна аналогия с фразеологизмом «каждой бочке затычка», тем более с учетом «реализованной» метафоры «текущие события». Внешняя самохарактеристика Достоевского («похудел») тоже начинает восприниматься как «приспособление» этого персонажа к выполнению функций «затычки».
- В том же эпизоде Достоевский объявляет приказ «о революционном дележе скота без всякого изъятия». Общеупотребительный смысл словосочетания – «без какого бы то ни было исключения» – контрастирует с его «буквальным» значением: ясно, что подобный «дележ» просто невозможен без обязательного «изъятия», т.е. экспроприации, скота у имущих.
- О крестьянине, прозванном Недоделанным, говорится, что «Достоевский чернилами вписал его в гражданский список под названием “уклоняющегося середняка без лично присвоенной фамилии” и тем самым прочно закрепил его существование: как бы родил Недоделанного для советской пользы». Заметим, что даже проводя «переименование», Достоевский не «присвоил» персонажу никакой фамилии (видимо, потому, что тот ее «недостоин» в принципе); таким образом, выражение «прочно закрепил» несет двойственный смысл: Недоделанный если и «закреплен», то в «подвешенном состоянии» – в качестве вечного «маргинала»12. Вместе с тем употребление прямолинейного «родил» (вместо «создал», «сотворил») вносит элемент натурализма и тем самым пародийности; а словосочетание «родил Недоделанного» вызывает сильные сомнения в полезности «акта творения» (характерна, кстати, «бесполая» внешность персонажа: «человек длинного тонкого роста, но с маленьким голым лицом и девичьим голосом»).
- Эпизод в «революционном заповеднике» – слова Дванова: «Надо мне в губернию отчет послать. Давно ничего не знаю, что там делается». Между двумя фразами предполагается причинно-следственная связь, однако обратим внимание, что намерение «послать отчет» (отправить информацию) отнюдь не тождественно желанию узнать новости (получить информацию).
- Эпизод в Калитве – на вопрос Дванова: «Были у вас офицеры? – раненный им крестьянин отвечает: “Не, никого не было <...> Каюсь тебе, милый человек: никого...”» Употребив слово «каюсь», он словно выражает чувство вины за отсутствие в селе белых офицеров – как будто их наличие было бы весьма желательно для Дванова.
- В том же эпизоде Копенкин высказывается о не доверяющем Советской власти кузнеце: «Ему ништо нипочем: сволочь-человек!» Слово «нипочем» имеет значение «легко, необременительно, не причиняет вреда» – однако Копенкин вкладывает в него прямо противоположный смысл: «не подходит», «не устраивает», «тяжело».
- Эпизод в Черновке – крестьяне жалуются Дванову на свою обделенность благами культуры: «По всей России, проходящие сказывали, культурный пробел прошел, а нас не коснулся: обидели нас!» Сочетание, в котором употребляется слово «пробел», восстанавливает его «забытое» значение: «просвет» (ср.: «свет знания»); однако при этом не отбрасывается и нормативное значение – пустота, отсутствие содержания; столкновение двух оценочно противоположных значений рождает комический эффект.
- Описание города, в котором царит нэп: «Иногда около зданий сидели нищие и сознательно ругали Советскую власть, хотя им прохожие подавали деньги как признакам облегчения жизни: за последние четыре года в городе пропали нищие и голуби». Слово «сознательно» здесь означает – целенаправленно, осмысленно; но с «идейно выдержанной» точки зрения ругающие Советскую власть поступают как раз «несознательно». «Несознательность» нищих проявляется и в том, что они ведут себя «архаично», в соответствии с культурной традицией: стремясь разжалобить публику, представляют себя жертвами «сильных мира сего». Однако эта логика выглядит неадекватной, «устаревшей»: в «новом» мире появление нищих – это признак повышения общего уровня жизни, ибо имущественное расслоение – положительное отличие от времен «военного коммунизма», когда все были равно «нищими» и потому профессионального нищенства не существовало. Подобная логика проявляется и у Чепурного, размышляющего о коммунизме, в котором «бедность и горе размножились настолько, что, кроме них, ничего не осталось»: парадоксальным образом, исключительное распространение бедности и горя оценивается как максимально желательный результат (ибо исчезли «богатые»).
- Вопрос Гопнера Чепурному о Чевенгуре-«коммунизме»: «Деревня, что ль, такая в память будущего есть?» Вследствие «неправильной» сочетаемости слов прошлое и будущее теряют различия: будущее мыслится как осуществленное, возможность превращается в действительность.
- О лошади, уведенной Чепурным с городской площади: «Что лошадь была ничья, тем она дороже и милее для чевенгурца: о ней некому позаботиться, кроме любого гражданина». Слово «кроме» с ограничительным значением сочетается со словом «любой», смысл которого предполагает именно отсутствие ограничений.
- Чепурный описывает Копенкину чевенгурский коммунизм: «Там живет общий и отличный человек <...> вполне обаятельно друг для друга». Слово «отличный» (т.е. высококачественный) связано и со значением «отдельный, частный»; поэтому по отношению к слову «общий» (т.е. «объединенный») оно предстает антонимом, а чевенгурский «человек» (характерно употребление этого слова вместо «люди») как бы получает прямо противоположные характеристики.
- Копенкин, подпавший под влияние рассказа Чепурного, «спрашивал уже иным голосом, как спрашивает сын после пяти лет безмолвной разлуки у встречного брата: жива ли еще его мать, и верит, что уже мертва старушка». Слово «верит» придает фразе странный смысл: смерть матери начинает выглядеть желательной (подобно тому, как желателен Для Копенкина социализм).
- Диалог Копенкина с Пиюсей, который сообщает о произошедшем в Чевенгуре «светопреставлении»: «Был просто внезапный случай, по распоряжению обычайки. – Чрезвычайки? – Ну да». Как видим, «внезапный случай» происходит «по распоряжению», а «чрезвычайное» и «обычное» предстают синонимами.
- Фраза Копенкина в разговоре с Чепурным: «По-твоему, бог тебе единолично все массы успокоит? Революционная масса сама может успокоиться, когда поднимется!» Здесь действия, обозначаемые антонимами «успокоиться» и «подняться» (т.е. возбудиться), выглядят как одновременные.
- Повествователь мотивирует тот факт, что «Чевенгур просыпался поздно» следующим образом: «Революция завоевала Чевенгурскому уезду сны». Контекстуальный смысл – «право на сны»; в приведенном сочетании слово «сны» актуализирует значение ирреальности, иллюзорности: поэтому благотворность революции оказывается сомнительной.
- Эпизод приезда Сербинова в Чевенгур: «Кучер вздыхал у лошадей и шептал про себя обиду – он уже рассчитывал на отъем лошадей здешними бродягами». Нетрадиционное употребление слова «рассчитывал» создает впечатление, будто «отъем лошадей» был бы желателен для кучера, – что не согласуется с испытываемой им «обидой».
Филологические записки. Воронеж, 1999. Вып. 13
(публикация на сайте www.platonovseminar.com)
![]()
1![]() Толстая-Сегал Е. «Стихийные силы»: Платонов и Пильняк: 1928–1929 // Slavica Hierosolymitana. Jerusalem, 1978. V. 3. Р. 106; Sliwowscy W. i R. Andrzei Platonow. Warszawa, 1983. S. 75; см. также: Яблоков Е.А. О философской позиции А. Платонова: Проза середины 20-х – начала 30-х годов // Russian literature. Amsterdam, 1992. V. 23. № 3. Р. 227–229.
Толстая-Сегал Е. «Стихийные силы»: Платонов и Пильняк: 1928–1929 // Slavica Hierosolymitana. Jerusalem, 1978. V. 3. Р. 106; Sliwowscy W. i R. Andrzei Platonow. Warszawa, 1983. S. 75; см. также: Яблоков Е.А. О философской позиции А. Платонова: Проза середины 20-х – начала 30-х годов // Russian literature. Amsterdam, 1992. V. 23. № 3. Р. 227–229.
2![]() Тексты платоновских произведений цитируются по: Платонов А. Собрание. [В 8 т.] М., 2009–2011.
Тексты платоновских произведений цитируются по: Платонов А. Собрание. [В 8 т.] М., 2009–2011.
3![]() «Не могут быть одновременно истинными две противоположные мысли об одном и том же предмете, взятом в одно и то же время и в одном и том же отношении» (Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. М., 1976. С. 488).
«Не могут быть одновременно истинными две противоположные мысли об одном и том же предмете, взятом в одно и то же время и в одном и том же отношении» (Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. М., 1976. С. 488).
4![]() Эти сентенции перекликаются с неоднократно звучавшим тезисом Е. Замятина – например, в статье 1923 г. «О литературе, революции и энтропии»: «Если бы в природе было что-нибудь неподвижное, если бы были истины – все это было бы, конечно, неверно. Но, к счастью, все истины – ошибочны: диалектический процесс именно в том, что сегодняшние истины – завтра становятся ошибками» (Замятин Е.И. Избр. произв.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 390).
Эти сентенции перекликаются с неоднократно звучавшим тезисом Е. Замятина – например, в статье 1923 г. «О литературе, революции и энтропии»: «Если бы в природе было что-нибудь неподвижное, если бы были истины – все это было бы, конечно, неверно. Но, к счастью, все истины – ошибочны: диалектический процесс именно в том, что сегодняшние истины – завтра становятся ошибками» (Замятин Е.И. Избр. произв.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 390).
5![]() Урез – граница воды у берега водоема.
Урез – граница воды у берега водоема.
6![]() Карасев Л.В. Движение по склону: Пустота и вещество в мире А. Платонова // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. М., 1995. Вып. 2. С.
Карасев Л.В. Движение по склону: Пустота и вещество в мире А. Платонова // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. М., 1995. Вып. 2. С.
7![]() Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т. М., 1991. Т. 2. С. 311.
Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т. М., 1991. Т. 2. С. 311.
8![]() Бергсон А. Творческая эволюция. М., 1998. С. 145.
Бергсон А. Творческая эволюция. М., 1998. С. 145.
9![]() Подорога В.А. Евнух души: Позиция чтения и мир Платонова // Вопросы философии. 1989. № 3. С. 22–23.
Подорога В.А. Евнух души: Позиция чтения и мир Платонова // Вопросы философии. 1989. № 3. С. 22–23.
10![]() Кстати, мотив железнодорожного крушения, представленного как метафора мировоззренческой катастрофы, реализован в романе Замятина «Мы»: здесь один из пунктов конспекта главного героя носит название «Столкновение поездов» – это именно тот фрагмент дневника, где обсуждается вопрос о счастливой возможности для человека стать «машиноравным», подвергнувшись «Великой Операции»; поняв, что это означало бы вечную разлуку с любимой, Д-503 ощущает безысходный внутренний конфликт: «Голова у меня расскакивалась, два логических поезда столкнулись, лезли друг на друга, крушили, трещали» (Замятин Е.И. Указ. соч. С. 118–123).
Кстати, мотив железнодорожного крушения, представленного как метафора мировоззренческой катастрофы, реализован в романе Замятина «Мы»: здесь один из пунктов конспекта главного героя носит название «Столкновение поездов» – это именно тот фрагмент дневника, где обсуждается вопрос о счастливой возможности для человека стать «машиноравным», подвергнувшись «Великой Операции»; поняв, что это означало бы вечную разлуку с любимой, Д-503 ощущает безысходный внутренний конфликт: «Голова у меня расскакивалась, два логических поезда столкнулись, лезли друг на друга, крушили, трещали» (Замятин Е.И. Указ. соч. С. 118–123).
11![]() Подорога В.А. Указ. соч. С. 23.
Подорога В.А. Указ. соч. С. 23.
12![]() Этот ономастический парадокс напоминает исторический анекдот времен Великой Французской революции, когда председатель революционного суда отказался рассматривать дело некоего де Сен-Сира на том основании, что все три части его фамилии – «де», «Сен» и «Сир» – имеют, соответственно, дворянское, религиозное и монархическое происхождение и потому уже не могут быть актуальными. На это подсудимый заявил, что он, стало быть, является лишь «отвлеченностью», «абстракцией», а следовательно, неподсуден – и, действительно, был оправдан, причем суд постановил: «Гражданину Абстракции предлагается на будущее время избрать себе республиканское имя, если он не желает навлекать на себя Дальнейших подозрений». «После того, как обнаружилось у подсудимого отсутствие имени, он стал невиден трибуналу как юридическое лицо, и наиболее правильным со стороны судей было бы сделать жест удивления, где же подсудимый и ради чего они заседают. Трибунал смог не поступить так, потому и только потому, что тут же дал подсудимому личное имя Абстракция» (Флоренский П. Имена. [Б. м.] 1993. С. 63)
Этот ономастический парадокс напоминает исторический анекдот времен Великой Французской революции, когда председатель революционного суда отказался рассматривать дело некоего де Сен-Сира на том основании, что все три части его фамилии – «де», «Сен» и «Сир» – имеют, соответственно, дворянское, религиозное и монархическое происхождение и потому уже не могут быть актуальными. На это подсудимый заявил, что он, стало быть, является лишь «отвлеченностью», «абстракцией», а следовательно, неподсуден – и, действительно, был оправдан, причем суд постановил: «Гражданину Абстракции предлагается на будущее время избрать себе республиканское имя, если он не желает навлекать на себя Дальнейших подозрений». «После того, как обнаружилось у подсудимого отсутствие имени, он стал невиден трибуналу как юридическое лицо, и наиболее правильным со стороны судей было бы сделать жест удивления, где же подсудимый и ради чего они заседают. Трибунал смог не поступить так, потому и только потому, что тут же дал подсудимому личное имя Абстракция» (Флоренский П. Имена. [Б. м.] 1993. С. 63)