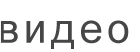Обратимся для начала к первоисточникам – к самым что ни на есть корням. Раскроем Толковый словарь В. Даля: «Булга – склока, тревога, суета, беспокойство. Булгатить, булгачить – тревожить, беспокоить, будоражить, полошить, баламутить». Невозможно представить более подходящей фамилии для писателя-сатирика – чье место в современной ему литературе, может быть, точнее всего определил Борис Пастернак: во время одного застолья, в апреле 1935 г., он предложил тост за Михаила Булгакова как за «незаконное явление».
Действительно: читая сегодня булгаковские повести, романы, комедии, трудно понять, как получилось, что их автор в 1930-х гг. уцелел и не был объявлен «явлением» вовсе внезаконным. Травили, подвергали классовому остракизму, делали из писателя черный миф советской литературы, однако из списков этой самой литературы всё же полностью не вычеркнули; уничтожали – но не уничтожили. Может быть, повлияло и то, что уже тогда Булгаков многими воспринимался как анахронизм, «забытый» автор нэповского прошлого: ведь для широкой публики практически все его тексты были попросту неизвестны. Это сегодня они растиражированы в сотнях изданий и одно за другим выходят собрания сочинений Булгакова. А он сам, умирая весной 1940 г., – на какие свои книги мог бросить взгляд? Кроме небольшого сборника «Дьяволиада» да еще двух книжечек фельетонов и очерков, которые появились еще в середине 1920-х гг., писатель до самого конца жизни не увидел советских изданий своей прозы, не говоря уж о пьесах: те вообще не публиковались – даже «Дни Турбиных» и «Зойкина квартира» после шумных театральных постановок 1926 г. остались не напечатаны. Ибо триумф этих пьес оказался недолгим: в 1929 г. обе были запрещены (впрочем, «Турбины» – лишь на три года). И «Багровый остров» был поставлен и сыгран, но вскоре снят. А «Бег» репетировался, однако так и не вышел; и многострадальный «Мольер» на пять лет завяз в мхатовских репетициях, а после премьеры в 1936 г. продержался на сцене… три недели; и «Адама и Еву» отвергли; и «Ивана Васильевича» задвинули... и «Пушкина» не разрешили… и «Батум» не позволили…
И в своей собственной стране сделали пленником: ни разу не выпустили Булгакова за границу. Еще в 1920 г. он, видимо, пытался уплыть с Кавказа в Турцию, да не смог сесть на пароход (об этом есть глухой намек в «Записках на манжетах»). А через десять лет, 18 апреля 1930 г., Сталин, внезапно позвонив писателю по телефону, предложил ему (полуутвердительно) уехать за рубеж – но Булгаков ответил (довольно уклончиво), что русский писатель без родины жить не может; похоже, собеседнику эта мысль до того понравилась, что «русского писателя» так до самой смерти на родине и оставили.
Однако, несмотря на буйство цензуры и вечное самоощущение узника, в «классический» образ полного изгоя Булгаков, пожалуй, не вписывается. Все-таки одна его оригинальная пьеса, «Дни Турбиных», в 1932 г. вновь увидела сцену и шла постоянно (да еще как шла – спектакль давали чуть ли не по два раза в неделю: уже к осени 1938 г. он был сыгран на мхатовской сцене 800 раз). Кроме того, ставили во МХАТе «Мертвые души» – инсценировка поэмы Гоголя тоже была сделана Булгаковым.
И постоянное «место работы» имелось: с мая 1930 г. служил во МХАТе ассистентом режиссера; потом оставил этот театр и в сентябре 1936 г. перешел в Большой – писал оперные либретто и другим помогал это делать (так и умер в должности ГАБТовского либреттиста-консультанта).
И членом Союза советских писателей являлся – с самого его основания до самой своей смерти.
И в отдельной трехкомнатной квартире жил – хотя не очень удобной и не слишком просторной, однако для рояля место было; а работал за антикварным александровским бюро (подарок жены). Правда, осенью и зимой 1937 г. Елена Сергеевна записывала в дневнике: «Денег у нас до ужаса нет. <…> Расходы огромные, поступления небольшие. Долги». А осенью 1938-го: «Подумать только, у М.А. написано двенадцать пьес – и ни копейки на текущем счету».
И на приемы в американское посольство иногда хаживал (считается, что впечатления от одного из таких визитов легли в основу сцены бала в «Мастере и Маргарите») – хотя в марте 1938 г. все в том же дневнике отмечено: «Приглашение от американского посла на бал 26-го. Было бы интересно пойти. Но не в чем, у М.А. брюки лоснятся в черном костюме. У меня нет вечернего платья. Повеселили себя разговорами, и все».
А умер хоть и в неполных сорок девять лет, но все же не от пули, не в лагере, не в пересыльной тюрьме, а в той самой квартире (помните, у Галича о Пастернаке: «в своей постели»); и панихида была в здании Союза писателей, и некролог; и похоронен на Новодевичьем кладбище – в двух шагах от Чехова.
А последним по времени начатым и завершенным произведением оказалась пьеса «Батум» – не о ком-нибудь, а о молодом Иосифе Джугашвили. Кстати, вообразим: если б не болезнь (от которой в столь же раннем возрасте умер и отец писателя) – кто знает? мог бы Михаил Булгаков пережить военное лихолетье, послевоенную эпоху, кончину вождя и понаблюдать очередную драку за власть в партийной верхушке – не столь душераздирающую, как после смерти Ленина, но тоже довольно впечатляющую…
Большинству читателей, которые видят в писателе исключительно сатирика-«диссидента», тема «Булгаков и советская власть» кажется прямолинейно-ясной (одно «Собачье сердце» чего стоит). Но на самом деле его отношения с режимом – в первую очередь, конечно, со Сталиным – оказались более глубокими и непроясненными, чем классическая оппозиция «гонимый – гонители». Самогó писателя такая неопределенность, по-видимому, немало волновала; недаром тема власти и образ властителя присутствовали в творческом сознании Булгакова до самого конца жизни; и тема «художник и властитель» тоже была одной из важнейших – начиная с 1929 г., с «великого перелома», когда в стране уже явно обозначилось «закручивание гаек» и в ответ на абсолютное неблагополучие осенью того же года была создана пьеса «Мольер».Явно вызывала интерес у Булгакова фигура «сильного», «всемогущего» (не обязательно генерального секретаря, но и его тоже), привлекала мрачная тайна силы и власти – как привлекала она Пушкина, Достоевского и Толстого; хотя, конечно, никто из них не имел дела с такой властью – столь абсолютной и бесчеловечной, какую довелось увидать Булгакову. Пожалуй, в его случае уместнее всего был бы горький рецепт Салтыкова-Щедрина (его Булгаков называл своим учителем) в «Истории одного города»: «Самое крайнее, что дозволялось, в виду идущей навстречу беды, – это прижаться куда-нибудь к сторонке, затаить дыхание и пропасть на все время, покуда беда будет кутить и мутить».
Однако Булгаков был человеком достаточно азартным; как ни хотелось ему временами инстинктивно «прижаться к сторонке и пропасть», сделать это не позволяли обостренное чувство собственного достоинства и выраженное в булгаковском характере «рисковое» начало. Как говорится в «Белой гвардии»: «Есть же такая сила, что заставляет иногда глянуть вниз с обрыва в горах… Тянет к холодку… к обрыву». Те, кто знал писателя в первой половине 1920-х гг., обращали внимание на некоторую фрондерскую демонстративность в его поступках: например, старомодно-«буржуйские» атрибуты внешности (вроде идеально ровного пробора, крахмальных манжет) или «аристократические» фотографии с «моноклем» (похоже, просто стеклышком от очков) в глазу. Впрочем, вслед за такого рода шутками (тоже не совсем безопасными) шли вещи посерьезней: допустим, неоднократные прямые обращения Булгакова «наверх», в сферы властей предержащих, – обращения хотя и отчаянные, но не униженные.
Кстати, первый опыт письма к руководителю страны относился еще к 1921 г., о нем рассказано в булгаковском очерке «Воспоминание». Трудно сказать, было ли всё на самом деле именно так, как здесь изложено, но, по словам героя-рассказчика, он сочинил «нечто, начинавшееся словами: “Председателю Совнаркома Владимиру Ильичу Ленину”. Все, все я написал на этом листе – и как я поступил на службу, и как ходил в жилотдел, и как видел звезды при двухстах семидесяти градусах над храмом Христа, и как мне кричали:
– Вылетайте как пробка».
Самое же известное из подобных булгаковских обращений – письмо Правительству СССР (читай – лично Сталину И.В.), написанное 28 марта 1930 г. в безысходной ситуации, когда писатель подумывал о самоубийстве. И как возымело действие письмо Председателю Совнаркома (помог, правда, не он сам, а его жена Н.К. Крупская), так небезрезультатным оказалось письмо «Правительству»: ответом стал тот самый телефонный звонок Сталина, после которого положение Булгакова в СССР несколько улучшилось (хотя границы страны остались навсегда непроницаемы). Звонок, видимо, породил у писателя надежды, потому что к Сталину он потом адресовался еще не раз – только ответов больше не получал.Боялся ли он? Безусловно. Рискнем утверждать, что мучительное ощущение страха было знакомо Булгакову слишком хорошо – может быть, даже привычно для него (если к такому можно привыкнуть). Например, 30 мая 1931 г. писатель сообщает все тому же адресату, что «хворает тяжелой формой нейрастении с припадками страха и предсердечной тоски». В июле 1934 г., после очередного «невыезда» за границу, Е.С. Булгакова записывает: «У М.А. очень плохое состояние – опять страх смерти, одиночества, пространства». И к тому же вспомним, чтó говорит о себе герой «Мастера и Маргариты»: «Холод и страх, ставший моим постоянным спутником, доводили меня до исступления… …страх владел каждой клеточкой моего тела. <…> Да, хуже моей болезни в этом здании нет, уверяю вас».
Этот страх «вообще», страх как основополагающее состояние личности, как симптом нервного заболевания (возможно, «след» морфия, которому Булгаков был привержен в 1917–1918 гг., или результат перенесенной в 1919 г. контузии) вполне «созвучен» той атмосфере, которая сгущалась и сгущалась в стране. Что говорить об опальном Булгакове, если даже один из главных «официальных» советских драматургов Александр Афиногенов в начале 1930-х гг. написал две пьесы из современной жизни, дав им характерные заглавия: «Ложь» и «Страх» (кстати, на вопрос того же Афиногенова в августе 1934 г., почему Булгаков не посещает Съезд советских писателей, тот ответил: «Я толпы боюсь»).
Нам, глядящим на жизнь Булгакова уже из следующего века, подчас кажется, что он умудрился прожить этаким непоколебимым стоиком – примерно так, как советует Воланд Маргарите: «Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут». Действительно, при чтении его книг возникает ощущение, что твердость принципов и упорное следование избранным путем всегда приводят к цели, а вера, любовь и творчество все побеждают. Но если не путать Булгакова с его героями и не оценивать его личность исключительно в «полярных» политических категориях («конформист» – «протестант»), то, как и у любого человека, в его жизни нетрудно будет обнаружить ситуации и поступки, которые он впоследствии тяжело переживал, за которые сам себя казнил: то ли потому, что и впрямь был виноват, то ли из-за того, что требования к себе предъявлял слишком высокие. Можно соглашаться с булгаковской самооценкой или заочно возражать; однако, пускаясь в рассуждения о человеческих слабостях подлинного художника, нельзя забывать о постоянно сопутствующем гению неотступном гнете изначально поставленной (кем?) задачи, которая должна быть выполнена – может быть, даже ценой «благополучной» биографии.
С сентября 1921 г., переехав в Москву, Булгаков полностью отдастся «писанию»; можно сказать, что в этот период (1922–1924 гг.) закладываются замыслы всех основных его произведений: основные темы, мотивы, типажи, которые пройдут через его романы, пьесы, повести, рассказы. Впрочем, сперва придется писать не романы и комедии, а осточертевшие фельетоны и репортажи – просто ради куска хлеба. После двух полуторагодичных «сроков испытаний» (один – с сентября 1916-го до начала 1918 г.: работа врачом в Смоленской губернии; второй – с осени 1919-го до мая 1921 г.: пребывание в Добровольческой армии, тиф, жизнь во Владикавказе при красных и первые опыты на драматургическом поприще) наступит и третий: существование на грани голода в ужасных бытовых условиях, в изнурительном поденном труде. Но и в этот очередной труднейший период Булгаков, несмотря на сомнения, все равно осознаёт: «В литературе я медленно, но все же иду вперед. Это я знаю твердо. Плохо лишь то, что у меня никогда нет ясной уверенности, что я действительно хорошо написал. Как будто пленка какая-то застилает мой мозг и сковывает руку в то время, когда мне нужно описывать то, во что я так глубоко и по-настоящему (это-то я твердо знаю) проникаю мыслью и чувством». Это дневниковая запись 30 сентября 1923 г. А через месяц, 26 октября: «В минуты нездоровья и одиночества предаюсь печальным и завистливым мыслям. Горько раскаиваюсь, что бросил медицину и обрек себя на неверное существование. Но, видит Бог, одна только любовь к литературе и была причиной этого». Через десять дней вера возвращается: «Я буду учиться теперь. Не может быть, чтобы голос, тревожащий сейчас меня, не был вещим. Не может быть. Ничем иным я быть не могу, я могу быть одним – писателем».
Булгаков знал, что талант – тяжелый дар, требующий от «принявшего» его человека немалого мужества. И не столь редка в его произведениях ситуация, когда герой поистине необыкновенных возможностей оказывается как бы «ниже» своего таланта, словно недостоин его. Таковы, например, гениальные ученые, которые бросают свои «детища» на произвол судьбы, отдавая их в руки тех, кто явно не сможет употребить открытие «по назначению»: вспомним «умывающего руки» профессора Персикова из повести «Роковые яйца» или Преображенского в «Собачьем сердце». Для обоих главное – научный результат; однако там, где «отвлеченная» наука переходит в «обычную» жизнь и начинает мериться мерками нравственности, ее адепты оказываются не вполне состоятельны.
Еще более явственна эта коллизия в ситуациях с людьми искусства. Так, в романе «Белая гвардия» маленький пошловатый улан Шервинский и его великий дар – голос – существуют словно по отдельности друг от друга – «не по праву» владеет таким даром фат и приспособленец. Характерно и высказывание героя рассказа «Морфий» о бросившей его жене-певице: «У нее голос необыкновенный, и как странно, что голос ясный, громадный дан темной душонке». Гениальный Мастер отречется от своей книги (в которой, кстати, в не меньшей степени, чем его талант, воплотилась любовь Маргариты): «Он мне ненавистен, этот роман, я слишком много испытал из-за него». Судя по всему, проявит слабость и герой «Записок покойника» Максудов; хотя мы не знаем о перипетиях событий в недописанном романе, но нам изначально известно, что они в конце концов приведут героя к самоубийству.
Булгаков немало рассказал о своей жизни, создав плеяду персонажей, которые воспринимаются как его «автопортреты»: таковы герои-рассказчики «Записок на манжетах» и «Богемы», доктор N в «Необыкновенных приключениях доктора» и доктор Алексей Турбин в романе «Белая гвардия», Голубков из пьесы «Бег» и безымянный герой «Записок юного врача», Сергей Поляков из рассказа «Морфий» и герой-рассказчик повести «Тайному другу», Максудов и Мастер; в какой-то мере даже Мольер. Заметим, что все эти персонажи подчеркнуто «негероичны»; чаще всего с ними связаны мотивы усталости и мечта об отдыхе, воплощают они скорее безволие, чем волю. Например, Алексею Турбину уже в самом начале романа «Белая гвардия» дается характеристика «человек-тряпка»; Мольера Лагранж тоже упрекает в мягкотелости: «Вы, учитель, не человек, не человек. Вы – тряпка, которою моют полы!» О том же, по существу, фраза Левия Матвея по поводу Мастера: «Он не заслужил света, он заслужил покой».
Судя по этим «автобиографическим» персонажам, Булгаков, несмотря на изумительное упорство перед лицом неблагоприятных обстоятельств, оценивал себя и свои поступки весьма самокритично – с каких-то «абсолютных» нравственных позиций. В дневниковой записи 26 октября 1923 г. читаем: «Я, к сожалению, не герой». То же самое говорит персонаж очерка «Сорок сороков»: «Категорически заявляю, что я не герой. У меня нет этого в натуре. Я человек обыкновенный – рожденный ползать». Стóит вспомнить и нередко цитируемый фрагмент письма Булгакова к его другу и биографу П. Попову от 14–21 апреля 1932 г.: «Теперь уже всякую ночь я смотрю не вперед, а назад, потому что в будущем для себя я ничего не вижу. В прошлом же я совершил пять роковых ошибок». Мысль о собственной слабости и малодушии, видимо, тревожила до конца дней – так, 21 сентября 1938 г. Елена Сергеевна запишет: «Постоянный возврат к одной и той же теме – к загубленной жизни М.А. М.А. обвиняет во всем самого себя». И отнюдь не только к читателю, но в первую очередь к самому себе обращены в «Мастере и Маргарите» слова Иешуа («подправленные» Левием и возведенные им в ранг этической максимы): «Нет большего порока, чем трусость».
Итак, принципиальность позиции и независимая прямолинейность поведения – в сочетании с мучительной неуверенностью и самоосуждением. Если вдуматься, в Булгакове удивляет вовсе не отсутствие «страха и сомненья» (А. Плещеев) – поражает способность преодолевать себя: умение подавлять внутреннюю дрожь, противопоставляя ей упрямство таланта и гордую человечность, претворяя слабость в то, что Анна Ахматова в своем стихотворном некрологе в марте 1940 г. назовет «великолепным презреньем». И, сколь бы ни были разнообразны и запутанны моральные коллизии в книгах Булгакова, можно сказать, что эти книги учат героизму. Только понимается это слово не так, как в массовой советской литературе тех лет: «официальному» героизму гордыни и фанатизма писатель противопоставляет героизм раскаяния и самопреодоления – и героизм любви.Главное в булгаковских произведениях – пафос личности: не сверхчеловека – но и не «человека массы». Вряд ли справедливо называть героев Булгакова «обыкновенными» людьми: в его художественном мире всякая личность существует не только в рамках «своей» конкретно-исторической эпохи, но помещена также в «большое» время, действует «на фоне» вечности; поэтому значение всякого «сиюминутного» слова и поступка оказывается усилено всемирно-историческим «резонансом».
Биография, событийная «канва» судьбы писателя известна довольно хорошо; ей посвящены исследования как в нашей стране, так и за рубежом – например, книги Э. Проффер, М. Чудаковой, Л. Яновской, Б. Мягкова и других исследователей. Но о внутренней жизни писателя, о Булгакове-человеке мы знаем мало – несмотря на сохранившиеся фрагменты дневника 1922–1925 гг.; на опубликованные интервью, записки и дневники трех его жен – Т. Кисельгоф, Л. Белозерской и Е. Булгаковой; на мемуары, собранные в книге «Воспоминания о Михаиле Булгакове» (М., 1988). А еще меньше знаем о самоощущении Булгакова-художника.
Судя по всему, об этом он практически не говорил или говорил очень редко – и, заметим, ни один из его героев-художников тоже не показан в процессе творчества: ни Мольер, ни Мастер; а в пьесе под названием «Александр Пушкин» сам «заглавный» персонаж и вовсе не появляется на сцене. Разве что в «Записках покойника» Максудов заводит речь о чем-то таком: объясняет, что ничего-де не «выдумывает», а попросту описывает своих родных и близких – вот и выходит сперва роман, потом пьеса… И заключает: «Что видишь, то и пиши, а чего не видишь, писать не следует».
Казалось бы, все просто. Вот только непонятно, почему же столь убоги другие писатели – такие «несимпатичные» персонажи «Записок покойника», как, например, Агапенов, Фиалков или Ликоспастов: они ведь тоже описывают, «что видят» прямо-таки «здесь и сейчас», вокруг себя. Ликоспастов и самого Максудова сделал персонажем: «…читая рассказ, в котором был описан некий журналист (рассказ назывался “Жилец по ордеру”), я узнал продранный диван с выскочившей наружу пружиной, промокашку на столе… Иначе говоря, в романе был описан… я!
Брюки те же самые, втянутая в плечи голова и волчьи глаза… Ну, я, одним словом!»Стало быть, один пишет «что видит», и другие поступают так же. Но разница огромна: у «описателей» – литераторов «массолитовского» типа – выходят плоские копии окружающей реальности; главный же герой проникает в ее глубины и несет слово Истины. Одному дано «видеть», другим – нет; но почему? Выходит, и тут тайна остается тайной.
Сам Булгаков, как и его любимые герои, этим особым зрением обладал в высшей степени. С одной стороны, в его книгах пленяет умение «брать» окружающую жизнь в ее актуальной пестроте, передавать атмосферу эпохи во множестве мелких характерных деталей – не зря он несколько лет проработал в газетах. Однако «фельетонная» фактурность сочетается со способностью видеть «временное» на фоне вечного, придавать сиюминутному универсальный характер и представлять любой момент преходящего времени как всемирно-историческое событие, очередной акт глобальной «мистерии». Поэтому подтекст в булгаковских произведениях не менее (если не более) важен, чем то, что происходит «на поверхности» фабулы. И поэтому, между прочим, даже к «автобиографизму» Булгакова приходится относиться с осторожностью.
Многие привыкли думать, что талантливый писатель – тем более такой «убедительный» мастер пластического рисунка, способный заставить читателя поверить в любую небывальщину (хотя бы в кота, выпивающего стопку водки и закусывающего маринованным грибом), и впрямь всё «списывает» с натуры («что видишь, то и пиши»). На первый взгляд, так оно и есть: скажем, Турбины в романе «Белая гвардия» живут в доме № 13 – и семья Булгаковых в Киеве жила на Андреевском спуске в доме под таким номером (сейчас там Дом-музей писателя); герой «Записок юного врача» работает в провинциальной больнице – и Булгаков некоторое время был сельским врачом. Однако как быть с такими, например, фактами: в романе «Белая гвардия» (и в пьесе «Дни Турбиных») Турбиных трое – два брата и сестра; но ведь на самом деле в семье Булгаковых детей было семеро: три брата (Михаил старший) и четыре сестры. Или вот: «Юный врач» из булгаковских «Записок» попадает в сельскую больницу в сентябре 1917 г. и служит там ровно год (это специально подчеркнуто в рассказах «Полотенце с петухом» и «Пропавший глаз»); однако реальный врач Михаил Булгаков приехал в село Никольское Сычевского уезда Смоленской губернии годом раньше своего героя – осенью 1916-го, а осенью 1917-го как раз оттуда уехал (был переведен в Вязьму). К тому же «Юный врач» одинок, бессемеен – а Булгаков жил в Никольском с женой (к 1916 г. они с Т. Лаппа были женаты уже три года).
Подобных «неточностей» можно обнаружить немало. Не станем вдаваться в подробности и разбирать конкретный смысл каждого из таких «отступлений» от фактической достоверности – все они неслучайны и в конечном счете подчинены той же масштабной цели: связать сиюминутное существование с беспредельностью бытия, придать изображаемой реальности универсальное измерение. И тем сильней и глубже сатира Булгакова, что осмеяние «гримас нэпа» и уродств советской действительности сочетаются у него с исследованием вечных закономерностей человеческой истории.
Сатириком он осознал себя, вероятно, с первых же написанных страниц; и очень быстро почувствовал, что доставшийся ему участок – один из самых каменистых. О нелегкой доле сатирика в России размышлял еще Гоголь; но стократ тяжелей пришлось наследникам Гоголя, Гофмана, Щедрина, Э. По, Сухово-Кобылина, А. Франса – современникам Булгакова, мастерам гротескной сатиры (таким как Е. Замятин, М. Зощенко, Л. Лунц, С. Кржижановский, Н. Эрдман) или «просто» романтическим фантастам (вроде А. Грина или А. Чаянова).26 октября 1923 г. автор «Дьяволиады» заносит в дневник: «Литература теперь трудное дело. Мне с моими взглядами, волей-неволей выливающимися в произведениях, трудно печататься и жить». Впрочем, откровенен он был не только перед самим собой, но и в таких обстоятельствах, когда откровенность могла дорого обойтись. Скажем, на допросе в ОГПУ 22 сентября 1926 г. вполне честно признавал: «Склад моего ума сатирический. Из-под пера выходят вещи, которые порою, по-видимому, остро задевают общественно-коммунистические круги. Я всегда пишу по чистой совести и так, как вижу! Отрицательные явления жизни в Советской стране привлекают мое пристальное внимание, потому что в них я инстинктивно вижу большую пищу для себя (я – сатирик)». Да и в том же письме «Правительству» Булгаков поясняет, что главная черта его творчества – «черные и мистические краски, в которых изображены бесчисленные уродства нашего быта».
К тому же специально – хотя с явной иронией – подчеркивает в скобках: «...я – МИСТИЧЕСКИЙ ПИСАТЕЛЬ». И правда: едва ли в книгах какого-нибудь другого русского прозаика XX в. можно отыскать так много «явлений» нечистой силы – или, по крайней мере, намеков на то, что без чёрта в людских делах не обходится: слишком уж «не по-людски» идет жизнь и совсем неразличима в кромешной неразберихе грань добра и зла. Как говорится в рассказе «Похождения Чичикова»: «Будто бы в царстве теней… шутник сатана открыл двери. Зашевелилось мертвое царство, и потянулась из него бесконечная вереница».
Кажется, булгаковский мир окончательно погряз в грехе и потому достоин лишь одного – Страшного суда. Одним из излюбленных жанров писателя следует признать жанр катастрофы: «светопреставлений» разного масштаба в произведениях Булгакова множество.
Вот в финале романа «Белая гвардия» над мировым Городом взрывается звезда Марс; и разве может после этого уцелеть Город – а вместе с ним и мир.
Жарко горит за грехи обитателей (как дореволюционных «буржуев», так и современных «пролетариев») дом № 13 – не «киевский», из «Белой гвардии», а «московский», из раннего рассказа «№ 13. – Дом Эльпит-Рабкоммуна»: тот, что на Садовой улице, рядом с Патриаршими прудами. Кстати, у Булгакова он описан многократно, а впервые – в шуточном стишке, который приложен к письму, адресованному сестре Надежде, от 23 октября 1921 г. (через месяц после того, как Булгаков поселился в Москве):
На Большой Садовой
Стоит дом здоровый.
Живет в доме наш брат
Организованный пролетариат.
И я затерялся между пролетариатом,
Как какой-нибудь, извините за выражение, атом.
В «Мастере и Маргарите» этому самому дому писатель «присвоит» номер 302-бис, и под «бисовым» знаком он, разумеется, тоже сгорит (вместе с «нехорошей квартирой» № 50).
Сгорает дотла Смоленск, беснуются обезумевшие московские толпы в повести «Роковые яйца».
Зреет в недрах профессорской квартиры зловещий демон Шариков – который сначала по неосторожности едва не «топит» (буквально) своего благодетеля, а затем уже вполне целенаправленно угрожает ему револьвером.
Гибнет Ленинград; неслышным ураганом (волнами смертоносного газа без цвета и запаха) прокатывается «мировая гражданская война» в пьесе «Адам и Ева».
Суровым чудачествам предается в Москве свита Воланда – и вновь горят дома, люди теряют головы (как в прямом, так и в переносном смысле), разбегаются по московским улицам голые гражданки… Одним словом, жизнь в состоянии «полного разоблачения».
Но есть у всех этих событий и другая сторона – которая зачастую остается незамеченной читателями. Беспрестанно гибнущий, постоянно горящий и тонущий булгаковский мир предстает «несгораемым» и «непотопляемым» – он никогда не погибает «окончательно»; события в итоге будто возвращаются к исходному состоянию. Вот финал «Похождений Чичикова»: «“Э-хе-хе”, – подумал я себе и стал одеваться, и вновь пошла передо мной по-будничному щеголять жизнь». Впрочем, это не так странно: все происходящее герой увидел во сне, потому явь и оказывается прежней. Однако в «Белой гвардии» перед нами отнюдь не галлюцинации – а повествователь все-таки склонен усомниться в реальности событий, как бы намекает, что все произошедшее (им же самим рассказанное!) было не более чем страшным сновидением: и недаром, кстати, в финале романа все герои засыпают (либо, как Иван Русаков, пребывают в забытьи); во всяком случае, очевидно, что жизнь под «взорванной звездой» все-таки не окончена и пойдет в общем по тому же пути, что и раньше: «И только труп и свидетельствовал, что Пэтурра не миф, что он действительно был… <…> А зачем оно было? Никто не скажет. Заплатит ли кто-нибудь за кровь?
Нет. Никто.
Просто растает снег, взойдет зеленая украинская трава, заплетет землю… выйдут пышные всходы… задрожит зной над полями, и крови не останется и следов. Дешева кровь на червонных полях, и никто выкупать ее не будет.
Никто».И в повести «Роковые яйца» тяжелейшие испытания и чудесное спасение от «гадов» тоже ничего не меняют: «…весною 29-го года опять затанцевала, загорелась и завертелась огнями Москва... <...> О луче и катастрофе 28 года еще долго говорил и писал весь мир, но потом имя профессора Владимира Ипатьевича Персикова оделось туманом и погасло, как погас и самый открытый им в апрельскую ночь красный луч». Сходно завершается «Собачье сердце»: пес Шарик, принявший прежний облик, лежит в профессорском кабинете, «задремывая», и думает лишь о том, что ему «голову всю исполосовали зачем-то», – но того, что с ним произошло на самом деле, не помнит.
И в Эпилоге романа «Мастер и Маргарита» автор, повествуя о судьбе Москвы после посещения ее Воландом, подчеркивает «безрезультатность» чудесного явления: «…наиболее развитые и культурные люди в этих рассказах о нечистой силе, навестившей столицу, разумеется, никакого участия не принимали... <…> Культурные люди встали на точку зрения следствия: работала шайка гипнотизеров». Стало быть, «культурные люди» склонны думать, что в течение трех дней Москва была попросту погружена в сон. «Итак, почти все объяснилось, и кончилось следствие, как вообще все кончается. Прошло несколько лет, и граждане стали забывать и Воланда, и Коровьева, и прочих»; «прошло несколько лет, и затянулись правдиво описанные в этой книге происшествия и угасли в памяти». Остается лишь один человек, помнящий (вернее, «ощущающий») истину: бывший поэт Иван Бездомный, а ныне профессор Иван Николаевич Понырев; но истина является к нему лишь однажды в году и опять-таки во сне.
Сколь бы много внимания ни уделял писатель «сатанинским» проискам, выводя их на первый план фабулы, – приходится признать, что этими инфернальными вторжениями и ужасающими мировыми катастрофами булгаковский мир не исчерпывается; главная его загадка и состоит в этой удивительной «устойчивости». А кроме того, нечистая сила «по собственной инициативе» не является – она приходит тогда, когда стремления людей проникнуть вглубь мировой тайны становятся чересчур настойчивыми, приобретают экстраординарный характер. В том же письме «Правительству» Булгаков признавал свой «глубокий скептицизм в отношении революционного процесса» и называл себя сторонником «излюбленной и Великой Эволюции». Нетрудно заметить, что возникновение сверхъестественных ситуаций и появление нечистой силы в его художественном мире чаще всего обусловлены усилиями человека обрести власть над временем.
О «машинах времени» Булгаков писал часто – кстати, еще в 1925 г. известный литературовед и критик В. Шкловский, прочитав «Роковые яйца», заключил: «Это сделано из Уэллса». Действительно, герой повести профессор Персиков открывает, а некий «революционный» деятель Рокк бездумно применяет луч, невероятно ускоряющий жизнедеятельность, – по существу, приводит «машину времени» в действие. Следствием этого оказывается явление ужасающих «гадов», едва не загубивших молодую Республику. Точно так же в «Собачьем сердце» Преображенский вначале стремится постичь тайну вечной юности, работая над проблемами омоложения, затем чуть не «отменяет» эволюцию, создав лабораторным путем «человекоподобное» существо (Швондер и вовсе объявляет Шарикова «готовым» человеком). А позже в пьесах «Блаженство» и «Иван Васильевич» писатель сделает главными героями изобретателей, сконструировавших собственно машину времени, с помощью которой совершаются путешествия как в будущее, так и в прошлое.
Однако к «машинам времени» должны быть причислены и гениальные творения булгаковских «мастеров» – Максудова из романа «Записки покойника» и главного героя «Мастера и Маргариты»: путем озарения, гениальной догадки они тоже преодолевают необратимость истории, «воскрешая» минувшее и делая его вновь существующим, физически осязаемым; то есть, по сути, выводят события из-под власти времени. Максудов восстанавливает эпизоды примерно двадцатилетней давности, мастер – почти двухтысячелетней; но и тот и другой в своих произведениях несут миру Истину. И в обоих романах явление пародийного «дьявола» (Рудольфи или Воланда) – своеобразный «ответ» бытия на это прикосновение человека к вечности.
История нередко представляется у Булгакова дьявольской игрой, будто бы произвольным вмешательством потусторонних сил. Однако эти силы, вызванные «сверхчеловеческими» действиями человека, скорее «вписываются» в систему отношений, установленных самими людьми, нежели навязывают собственные принципы. И когда Маргарита спрашивает, «на чьей стороне» Абадонна, Воланд отвечает: «Он на редкость беспристрастен и равно сочувствует обеим сражающимся сторонам. Вследствие этого и результаты для обеих сторон бывают всегда одинаковы». Сам образ «высшей силы» (злой или доброй) – лишь функция традиционных культурных представлений человечества, фактически «создается» самим человеком. Поэтому «потусторонние» существа в булгаковских произведениях зачастую походят на актеров, исполняющих роли потусторонних существ: они неизбежно «театральны», «оперны», «опереточны», полусмешны-полусерьезны.
Особенно показательна в этом смысле история последнего булгаковского романа, где приближенные Воланда явно напоминают то ли бродячий театр, то ли кочующую цирковую труппу и который от редакции к редакции «все более освобождался от прямых отождествлений Воланда с дьяволом» (М. Чудакова). Действительно, Воланд у Булгакова отличается от «традиционного» Сатаны прежде всего тем, что не творит целенаправленного зла: он не злонамерен, а справедлив, причем до такой степени, что исключает какое бы то ни было снисхождение и милосердие. Даже то, что Воланда прямо называют сатаной, еще ничего не доказывает: вспомним, что его именуют также «иностранцем», «шпионом», «консультантом», «профессором», «историком», «черный магом»… И «сатана» – лишь очередное слово, которое привычно людям, но мало что проясняет в истинной природе Воланда, чей образ недаром строится автором с помощью объединения противоположностей. Его сущность – живая диалектика бытия; каковы бы ни были первоначальные замыслы автора «романа о дьяволе», Воланд в окончательной редакции – не всемирное зло, а олицетворенная в традиционном «дьявольском» облике космическая бесконечность времени-пространства.
Недаром одно из важнейших свойств булгаковской «нечистой силы» – способность ускорять или замедлять время: не изменять произвольно ход исторических событий, а лишь слегка «подталкивать» их в ту или другую сторону. Вот, например, самый загадочный и демоничный персонаж романа «Белая гвардия» Михаил Семенович Шполянский, то ли богатый бонвиван, играющий в богоборчество и футуризм, то ли тайный эмиссар большевиков (предтеча «антихриста» Троцкого), то ли и впрямь чёрт в человеческом облике: из-за него «гетманский Город погиб часа на три раньше, чем ему следовало бы». Вспомним и сцену в романе «Мастер и Маргарита», когда Воланд объявляет барону Майгелю: «Разнеслись слухи о чрезвычайной вашей любознательности. <...> Более того, злые языки уже уронили слово – наушник и шпион. И еще более того, есть предположение, что это приведет вас к печальному концу не далее, чем через месяц. Так вот, чтобы избавить вас от этого томительного ожидания, мы решили прийти к вам на помощь». А на вопрос Маргариты: «Что же это – все полночь да полночь, а ведь давно уже должно быть утро?» – Воланд отвечает: «Праздничную ночь приятно немного и задержать».
Разумеется, для писателя свойственны «игры» не только с временем, но и с пространством. Как известно, Булгаков – автор по преимуществу «городской»; по его собственному признанию (перед следователем ОГПУ), о деревне он писать не умел и не мог, в силу нелюбви к ней. Булгаковский город – «город-миф», «город-мир» (опять-таки узнаваемы традиции Гоголя) – существует одновременно в нескольких исторических эпохах; и, строго говоря, это даже не один конкретный город, а несколько образов легендарных городов, как бы «просвечивающих» друг сквозь друга. Не случайно в романе «Белая гвардия» место, где происходят события, лишено конкретного имени: это Город «вообще», в котором черты реального Киева совмещаются с чертами античного Рима, гибнущего библейского Вавилона и даже Иерусалима (видение которого возникает в сцене молитвы Елены Турбиной). А в «Мастере и Маргарите» такое взаимное «наложение» Москвы и Ершалаима (и совершающихся в них событий) уже самоочевидно.
Булгаков говорил, что эпос и драма в его творчестве неразрывно связаны и неразделимы, как правая и левая руки пианиста. Поэтому вполне закономерно, что в его прозе пространство города обретает черты театральной декорации, пейзаж оборачивается «интерьером». Еще в 1924 г. Е. Замятин подметил в булгаковской «Дьяволиаде» «быструю, как в кино, смену картин» (кстати, последняя глава «Дьяволиады» называется «Парфорсное кино и бездна»). Такая же «кинематографическая» атмосфера определяет жизнь Москвы и в повести «Роковые яйца». В «Белой гвардии» наивысшей точкой пространства Города, из которой распространяется героически-«опереточная» атмосфера сопротивления, заранее обреченного на неудачу, оказывается «магазин “Парижский шик” Мадам Анжу» – который «помещается на Театральной улице». В пространстве романа «Мастер и Маргарита» подобная роль связана с Триумфальной площадью, где расположен театр Варьете: выплескиваясь из его стен, «сеанс черной магии», по существу, охватывает весь город. А в заключительной главе «Мастера и Маргариты», с выходом из «земного» времени в вечность, герои освобождаются от земных «амплуа», обретая истинный облик: «Все обманы исчезли, свалилась в болото, утонула в туманах колдовская нестойкая одежда».
Город оборачивается сценой; бытие предстает вечным мировым театром (вспомним афоризм Шекспира), где на подмостках разыгрывается, в сущности, одна и та же пьеса – только актерский состав все время меняется. В этом театре каждый актер имеет право сыграть лишь один раз: «спектакль» – его собственная жизнь. И даже если раньше в подобной роли выступали сотни других исполнителей, то для него (как и для каждого из предшественников и последователей) собственное выступление – первое и последнее; поэтому истинная игра должна быть «безоглядной».
Перед лицом трагикомического мирового круговорота Булгаков отнюдь не стремится утверждать тщетность индивидуальных усилий и ничтожность отдельно взятого человека. Напротив: если какая-нибудь сила и оказывается «равновелика» грозной бесконечности непостижимого бытия, то это дух стойкой личности, идущей своим путем, в соответствии со своими принципами, верой, мечтой, любовью. «Театр» и жизнь в книгах писателя неразделимы; история предстает вечной «репетицией» и исполнена ожиданием торжественной всеобщей «премьеры». Художественный мир Булгакова, мир в высшей степени серьезного романтического пафоса, проникнут вместе с тем ощущением радостной игры, внушающей надежды на «невсамделишность» испытаний и обретение более благоприятной судьбы.
Предисловие к Собранию сочинений М.А. Булгакова в 8 т.
(СПб.: Азбука, 2002. Т. 1).