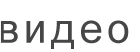Исследование типологии платоновских персонажей естественно подразумевает вопрос о критериях, с помощью которых может быть проведена классификация. Чтобы ответить на этот вопрос, следует вначале сказать несколько слов о том, какие проблемы из общего круга проблематики произведений Платонова представляются нам наиболее важными.
Всякий субъект (в том числе и повествователь) в платоновских произведениях выглядит в первую очередь участником универсального «метаконфликта», пронизывающего каждый момент действия, каждый характер, каждую деталь, находящего выражение в самой структуре художественной речи. Этот гносеологический конфликт – драматическая коллизия неполноты, «частичности» любого акта познания, освоения мира человеком. Испытавший и синтезировавший в своем творчестве влияние двух мощных философских «потоков» – русского религиозного космизма и «философии жизни» – писатель уже в начале 1920-х годов обнаруживает знакомство как с идеями Н. Федорова и Н. Бердяева, так и с концепциями Ф. Ницше, А. Бергсона, О. Шпенглера.
Внешне «железный», космически-преобразовательный пафос героев раннего Платонова проистекает из очевидной невозможности для них обрести гармоничное равновесие в мире, «вернуться» в природу, преодолеть разрыв субъекта с объектом. Может быть, наиболее отчетливо эта драма воссоздана в рассказе «В звездной пустыне» (1922), о герое которого Игнате Чагове говорится: «Он не мог видеть равнодушно всю эту нестерпимую рыдающую красоту мира. Ее надо или уничтожать или с ней слиться. Стоять отдельно нельзя». В статье «О любви» Платонов пишет об «отставании» мысли от чувства в деле слияния с «душою мира», о необходимости «более высшего, более универсального понятия, чем религия и чем наука». О конфликте между сознанием и бытием продолжает он говорить и в 1934 г.: «Наука родилась в тот момент, когда человек почувствовал себя отделенным от вселенной, когда природа извергла из себя это существо, и человек захотел снова слиться с ней для своего спасения».
Если в платоновской прозе начала 1920-х годов силен элемент фантастики «научного» типа, то в период зрелого творчества, при относительно большем жизнеподобии деталей, художественный мир в целом выглядит тем не менее «сомнительным» и, в сущности, непонятным, несводимым в набор логическо-понятийных категорий. Читателю как бы предлагается выбор из двух вариантов интерпретации – конкретно-исторического или мифологического. На деле возможность подобного выбора является лишь эстетической иллюзией, составной частью условности: такое «балансирование» – стилевая доминанта платоновской прозы, призванной продемонстрировать, что мир не охвачен, не «освоен» сознанием и не может быть им освоен целиком. Важнейшее свойство образа автора в платоновских произведениях состоит в том, что для него все «истинное» истинно лишь отчасти. Оттого столь трудно однозначно говорить об авторской позиции, парадоксально сочетающей антиутопизм с утопизмом. Сама речь у Платонова настолько своеобразна стилистически, что не может быть безоговорочно принята читателем как «своя», вызывает известное недоверие, хотя ее выразительность потрясает.
Перед лицом конфликтной гносеологической ситуации, лежащей в основе платоновского художественного мира, актуальным является поиск типа человека, который по своему мироощущению и поведению был бы в наибольшей степени «адекватен» миру. С точки зрения отношения к бытию в целом персонажи Платонова тяготеют к трем типам, для каждого из которых доминирует то или иное начало личности: инстинктивно-«природное» («естественный» человек), рационально-волевое («деятель»-утопист), интуитивно-духовное («странник»). Особо должен быть поставлен вопрос о женском типе в платоновских произведениях, который представляется единым, несмотря на известное разнообразие персонажей женского пола. Перейдем теперь к характеристике каждого из намеченных типов.
У Платонова нет мистического расчленения мира на «посюстороннее» и «потустороннее»; жизнь – это бытие, постоянно вопрошающее себя о себе самом. Такое положение, показывает писатель, требует почти физических по интенсивности усилий от каждого живущего; достаточно перестать их прикладывать – и жизнь в мире начинает «уменьшаться». Косное состояние материи, смерть, может быть «отменено» лишь постоянной и неустанной борьбой с ним в самых различных смыслах: не только физиологическом, но и социально-политическом и морально-психологическом. В известном смысле, жизнь – это работа по производству и поддержанию самой себя; поэтому, например, столь велико у Платонова значение «реализованной» метафоры «самодельный» человек, восходящей одновременно к Бергсону, писавшему в «Творческой эволюции», что человек направляет творческое усилие не только на мир, но и на самого себя, – и Марксу, который считал, что человек есть «свой собственный продукт и результат»1.
В платоновском творчестве широко распространены персонажи, пребывающие в состоянии, почти исключающем волю к жизни и оттого близком к смерти – сонному оцепенению, в котором пребывает неодухотворенная материя; это, так сказать, люди, еще «не выделившиеся» из природы и в этом смысле «естественные» существа. Живущие «нечаянно», подобно Филату из повести «Ямская слобода», они вполне могут забыть о том, что необходимо поддерживать собственную жизнь. Таковы «прочие» в романе «Чевенгур», у которых «сил хватало для жизни только в текущий момент, они жили без всякого излишка»; таков Прохор Абрамович Дванов, отец Прошки, существующий, «как живут травы на дне лощины». Социальные предпосылки появления такого типа, конечно, ясны. В статье «У начала царства сознания» (1921) Платонов утверждал: «В России по понятным причинам осталось столько жизненной энергии, что ее хватает только на поддержание, на сохранение организма. На развертывание, усиление жизни энергии нет». Рисуя персонажей, подобных прочим и джан, писатель показывает, что они не могут и не хотят решать свою судьбу. Их, действительно, в равной степени можно считать как людьми, так и некими «природными» телами, поскольку они лишены места в социуме и движутся, как перекати-поле, в зависимости от внешних факторов. «Мы куда попало идем, где нас окоротят. Поверни нас, мы назад пойдем», – говорит в «Чевенгуре» один из таких персонажей. Личности здесь нет, она не выделена из стадообразной толпы; «мертвые души» выключены из истории и пребывают в «неисторическом», или «доисторическом», состоянии – их кружение по миру напоминает природный круговорот. Человек живет инстинктом рода, в котором потомок равен предку. Не будучи общественными существами, подобные персонажи пребывают вне морали, они вне идеалов, и к счастью их можно лишь вести, причем в буквальном смысле, как ведут «прочих» Прокофий и Пиюся, а народ джан – Назар Чагатаев.
Герои данного типа не обязательно с самого рождения именно таковы. Превращение человека под влиянием внешних факторов в «природное» существо выглядит особенно ярко, когда Платонов рисует бытие на промежуточной стадии между человеком и животным, что́ обычно является знаком быстрой смерти. Речь идет о регрессивном процессе: замученный человек «поворачивается вспять», и это отнюдь не идиллия «возвращения в природу». Так, в «Чевенгуре» видим умирающего ребенка и «его слабое тело, обросшее шерстью от пота и болезни». Сходно описание умершей женщины в повести «Котлован»: «Длинные обнаженные ноги были покрыты густым пухом, почти шерстью, выросшей от болезней и бесприютности, – какая-то древняя, ожившая сила превращала мертвую еще при ее жизни в обрастающее шкурой животное». В рассказе «Мусорный ветер» о собаке говорится, «что она – бывший человек, доведенный голодом и нуждой до бессмысленности животного»; герой рассказа Лихтенберг в итоге сам превращается в «обезьяну или прочее какое-нибудь ненужное для Германии, ненаучное животное».
Отметим, что у Платонова наблюдается и тенденция показать «очеловечивание» зверя. Так, в раннем «Рассказе о многих интересных вещах» (1923) изображен «волк Яким – человек почти существующий. По обличию – скот и волк, по сердцу и глазам – странник и нагое бьющееся сердце». Однако богатого развития эта линия не получила: через восемь лет подобный персонаж в «Котловане» – медведь-молотобоец Мишка Михайлов – воспринимается как гротескный, трагикомический образ, свидетельствующий, скорее, о неудаче «очеловечивания»; в «Ювенильном море» мечты Високовского о «конских свободах и равноправии коров» (В. Хлебников) выглядят, скорее, утопией.
Подобно тому как инстинкту традиционно противопоставляется рассудок, «естественному» человеку у Платонова противостоит тип, воплощающий сугубо рациональное, умозрительно-духовное отношение к миру. Недаром столь ощутимо, просто-таки физически затруднен для платоновских персонажей подчас сам процесс называния явлений, выражения собственных мыслей и чувств. «Самая живая мысль застывает в формуле, ее выражающей. Слово обращается против идеи. Буква убивает дух»2. Но если слово «обедняет» реальность, то дело создает, по существу, новую реальностью, и эта «вторая» у Платонова оказывается в неопределенном соотношении с «первой». Негодным оказывается проект Епифанских шлюзов в одноименной повести, причем здесь нет ни критики Петра I и проводника его планов Бертрана Перри, ни идеализации крестьян, безразличных к собственной жизни. Негодным признается и способ «покорения» мира, изобретаемый в повести «Эфирный тракт» Исааком Матиссеном, «явно насилующим природу» и утверждающим, что «весь ум – зло»; катастрофа во время эксперимента, приводящая к гибели самого Матиссена, выглядит как «реализация» метафоры – человек превращается в мысль, в «чистую идею». Подобным носителем «разлагающегося» интеллекта представлен в романе «Чевенгур» Симон Сербинов. Аллегория разума, превратившегося в самоцель, изображена на картине, которую Назар Чагатаев видит в комнате Веры («Джан»). Путь подобных персонажей из «царства необходимости» лежит не просто в «царство свободы», но гораздо дальше – в «царство мнимости» («Мусорный ветер»). Конечно, наиболее ярко недостатки умозрительных преобразований видны при изображении Платоновым социального утопизма. Важно однако, что отношение автора к утопистам не является однозначно отрицательным. Несмотря на вполне понятное стремление многих читателей и критиков видеть в платоновских произведениях середины 1920-х – середины 1930-х годов преимущественно сатирическое начало, мы считаем, что объективно тип «деятеля»-утописта несет здесь двойственную, амбивалентную оценку. Недаром столь распространен в платоновском творчестве бюрократ-романтик, в изображении которого сатира и патетика удивительным образом соседствуют, не отменяя друг друга. И не столь уж далеко от «рыцарей умственного поля» из города Градова до рыцаря Розы Люксембург Степана Копенкина. И одинаковой альтруистичной и бесчеловечной «любовью к дальнему» (Ф. Ницше) охвачены Петр Евсеевич Веретенников («Государственный житель»), герои повести «Котлован» и Виктор Васильевич Божко из романа Платонова «Счастливая Москва». Уж на что, казалось бы, неприязненное чувство нагнетается в первой части «Котлована» по отношению к Сафронову и Козлову; однако стоит им умереть – все резко меняется: «Козлов продолжал лежать умолкшим образом, будучи убитым; Сафронов тоже был спокоен, как довольный человек, и рыжие усы его, нависшие над ослабевшим полуоткрытым ртом, росли даже из губ, потому что не целовали при жизни. Вокруг глаз Козлова и Сафронова виднелись засохшая соль бывших слез, так что Чиклину пришлось стереть ее и подумать – отчего ж это плакали в конце жизни Сафронов и Козлов?»
«Бюрократизм» и «романтика» растут в произведениях Платонова из одного корня: то и другое проистекает из необходимости для рассудка заключить Универсум в клетку «категорий» и таким образом героически «превзойти» бытие. Сознание, как показывает писатель, по своей сущностной природе содержит тенденцию к утопизму, стремится «обрубить» бесконечно многообразные связи между явлениями и некий фрагмент реальности, соответствующий «горизонту» сознания, выдать за всю реальность в целом. Платоновские «бюрократы-романтики» стремятся прежде всего ограничить пространство и остановить время – по существу, отменить то и другое: чают конца света и стремятся «жить между собой без паузы» («Чевенгур»). Есть все основания полагать, что Платонову была хорошо известна позиция Н. Бердяева, писавшего: «Русские люди, когда они наиболее выражают своеобразные черты своего народа, – апокалиптики или нигилисты. Это значит, что они не могут пребывать в середине душевной жизни, в середине культуры, что дух их устремлен к конечному и предельному»3. Естественно, в виду «абсолютной» цели всякое наличное существование воспринимается как паллиатив: герои Платонова будто не могут поверить в истинность окружающего их бытия, не принимают его ценности. В сопоставлении с персонажами, принадлежащими к типу «деятелей»-утопистов, природа в платоновском творчестве выглядит уже не той «перемогающейся», «скучной» стихией, какой была, когда речь шла о типе «естественного» человека: разрушая утопии, природа не позволяет человеку отказаться от самого себя.
Рассмотренные нами две полярных друг другу позиции человека по отношению к бытию на деле имеют одну важную общую черту: как «естественное», так и рационально-утопическое мироощущение равно игнорируют личность. Интересно, что в ряде платоновских произведений выведены персонажи, чьи характеры существуют словно на грани между двумя обрисованными типами, соединяя гипертрофию «природного» и рационального: «волю к жизни» – с «волей к власти». Таков, например, горбун-сладострастник Петр Федорович Кондаев («Чевенгур»), который «хотел всю деревню затомить до безмолвного, усталого состояния, чтобы без препятствия обнимать бессильные живые существа». Ужасным символом синтеза тоталитарной власти и разнузданной «природы» выглядит палач-гомосексуалист в повести «Епифанские шлюзы». Можно указать также на образы Священного («Ювенильное море»), фашистов из рассказа «Мусорный ветер», про которых Гедвига Вотман говорит, что они сексуально извращены. Следует подчеркнуть, что к подобным персонажам Платонов относится без малейшей доли комического, даже не сатирически; речь идет о силе, служащей исключительного ослаблению жизни и насаждению смерти.
Этой зловещей силе в платоновском творчестве противостоит мироощущение человека, ищущего и в принципе способного испытать состояние гармонии с миром. Правда, говорить о подобном состоянии как легко достижимом и тем более вполне достигнутом для кого-либо из персонажей сложно (по крайней мере, если речь идет о произведениях 1920-х – середины 1930-х гг.). Хотя писатель несколько раз делает попытку изобразить гармоничное мироощущение, находя для его носителя определение – «сокровенный человек». Во-первых, это, конечно, герой одноименной повести Фома Пухов, душа которого, «заросшая жизнью», постепенно просыпается; во-вторых – герой «Эфирного тракта» Михаил Кирпичников, о котором говорится: «Есть люди, бессознательно живущие в такт с природой: если природа делает усилие, то такие люди стараются помочь ей внутренним напряжением и сочувствием. Может быть, это остаток того чувства единства, когда природа и человек были сплошным телом и жили заодно». Вспомним также юного героя «Чевенгура»: «Дванов опустил голову и представил внутри своего тела пустоту, куда непрестанно, ежедневно входит, а потом выходит жизнь, не задерживаясь, не усиливаясь, ровная, как отдаленный гул, в котором невозможно разобрать слова песни. Саша почувствовал холод в себе, как от настоящего ветра, дующего в просторную тьму позади него, а впереди, откуда рождается ветер, было что-то прозрачное, легкое и огромное – горы живого воздуха, который нужно превратить в свое дыхание и сердцебиение». Какой же тип поведения, какой вид деятельности в наибольшей степени соответствует положительному мироощущению платоновского человека? Бесспорно, это – «странничество», которое выглядит не просто как «перемена мест», абстрактное перемещение, но как «собирание» мира в свою душу; идея странствования, движения в пространстве объединяется с идеей памяти – движения во времени и «хранения» этого времени.
Потребность в странствовании изображается Платоновым как почти физиологическая. Так, в «Эфирном тракте» о Егоре Кирпичникове говорится: «От отца или от давних предков в нем сохранилась страсть к движению, странствованию и к утолению чувства зрения. Быть может, его далекие деды ходили куда-то с сумочками и палочками на богомолье из Воронежа в Киев». В романе «Чевенгур» получают специфически-«платоновское» истолкование идеи Эйнштейна: «В кабинете он вспомнил про одно чтение научной книги, что от скорости тяготения, вес тела и жизни уменьшаются, стало быть, оттого людей в несчастии стараются двигаться. Русские странники и богомольцы потому и брели постоянно, что они рассеивали на своем ходу тяжесть горюющей души народа».
Испытывая «давление» мира, платоновский «странник» не отдается механически во власть внешних сил, но и не стремится «отменить» мир рационально-волевым усилием: он как бы сливается с миром, «течет» вместе с ним. Ощущая трагическую пустоту за плечами (разъединение с Космосом, с предками, с другим человеком), «странник», пытаясь слиться с миром, надеется при этом вернуть, восстановить и удержать все бывшее прежде. Прошлое живет в нем физически (природа, общество, род) и духовно (память и мечта): и он стремится вперед, как бы в надежде увидеть за горизонтом то, от чего некогда ушел. Этот тип человека, не имеющего готовых ответов на все вопросы, но ощущающего бытие как постоянное «вопрошание», является у Платонова важнейшим, психологически наиболее близким к автору. В ранний период творчества писатель утверждал, что «грядущая жизнь человечества – это поход на Тайны во имя завоевания Истины, источника вечного и последнего нашего блага. Около нее мы остановимся навсегда. Ибо не бесконечности, а конца, результата прогресса хочет человечество». Однако, по справедливому замечанию М. Любушкиной, в художественном творчестве приходил к иным выводам: «Тайна остается, и ничто во всем дальнейшем творчестве писателя не будет противоречить этой интуитивной констатации»4. Образ Тайны в платоновском творчестве устойчиво связан с женским началом бытия.
Уже в ранней публицистике Платонова женщина приобретает черты идеального существа, способствующего преодолению мучительного разделения царящего в мире. Писатель, бесспорно, читал работы В. Соловьева и, вероятно, знал книгу Н. Бердяева «Смысл творчества», где, в частности, говорится: «Мужчина-человек через женщину связан с природой, с космосом, вне женского он был бы отрезан от души мира, от матери-земли»5. В статье с характерным названием «Душа мира» молодой писатель заявляет: «В женщине живет высшая форма человеческого сознания... Женщина знает, что мир и небо и она – одно». При всем негативном отношении Платонова к проблематике пола женщина в его творчестве приобретает черты идеального, «совокупного» человека, черты Софии. Женские образы у Платонова символизированы значительно сильнее, нежели мужские. По существу, речь должна идти об определенных «ролях» единого женского образа «Души мира», в каждой из которых выступает та или иная героиня: мать – жена – сестра – любовница – возлюбленная – Прекрасная Дама. Перед нами «ипостаси» единого образа Женщины, податливой и непостижимой, вечно обновляющейся и обновляемой, дающей жизнь и рождающей убийственные страсти. Особенно ярко это видно на примере романа «Чевенгур», где неоднократно и различными средствами подчеркнута тождественность Розы Люксембург, Сони Мандровой, Феклуши, Клавдюши – вообще всех женщин. Следует, однако, отметить, что гармоничного «слияния» мужчины и женщины в романе нет и оно, по-видимому, принципиально невозможно. К каждому из персонажей образ «Души мира» оборачивается той гранью, которая психологически ближе конкретному герою, но ни для кого не раскрывается до дна, никому не «отдается» целиком. Единый, совокупный женский образ символизирует в творчестве Платонова то мировое начало, которое в принципе явлено каждому человеку и даже интимно-близко ему (ведь каждый – плоть от плоти этого мира), однако никем и никогда не может быть «присвоено», раскрыто до конца. По отношению к «метаконфликту», котором шла речь вначале, женщина в платоновском творчестве находится в ином положении, нежели мужчина: она связана не столько с «субъектом», сколько с «объектом». Таким образом, отношения между мужчиной и женщиной исполнены метафизического смысла, связаны с кардинальными философскими проблемами.
Удел платоновского героя – бесконечное странствие в бесконечном мире. По мнению Е. Толстой, позиция автора у Платонова – «позиция человека, не знающего ответа»6. Действительно, если понимать «ответ» чисто рационально – как «снятие» противоречий, примирение противоположностей, то таких решений писатель не давал. Дихотомия «безобразно-живого» и «бесчувственно-прекрасного» («Чевенгур») может быть «снята» лишь эстетически – путем изображения, констатации существующего в мире трагического разрыва. К началу 1930-х годов – это, пожалуй, максимум «разрешенности» проблем у Платонова. С середины 1930-х гг. писатель будет искать путей к примирению, синтезу крайностей в творчестве отдельного человека, общества, цивилизации.
«Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. [Вып. 1] М., 1994.
(публикация на сайте www.platonovseminar.com)
![]()
1![]() Маркс К., Энгельс Ф. Соч.: В 50 т. Изд. 2-е. М., 1974. Т. 42. С. 164.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч.: В 50 т. Изд. 2-е. М., 1974. Т. 42. С. 164.
2![]() Бергсон А. Творческая эволюция. М.; СПб., 1914. С. 114.
Бергсон А. Творческая эволюция. М.; СПб., 1914. С. 114.
3![]() Бердяев Н. Миросозерцание Достоевского. Париж, 1968. С. 12.
Бердяев Н. Миросозерцание Достоевского. Париж, 1968. С. 12.
4![]() Любушкина М. Идея бессмертия у раннего Платонова // Russian Literature. 1988. V. 23. P. 418.
Любушкина М. Идея бессмертия у раннего Платонова // Russian Literature. 1988. V. 23. P. 418.
5![]() Бердяев Н. Смысл творчества: Опыт оправдания человека. СПб., 1916. С. 178.
Бердяев Н. Смысл творчества: Опыт оправдания человека. СПб., 1916. С. 178.
6![]() Толстая-Сегал Е. Идеологические контексты Платонова // Russian Literature. 1981. V. 9. P. 251.
Толстая-Сегал Е. Идеологические контексты Платонова // Russian Literature. 1981. V. 9. P. 251.