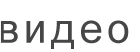Задача данной статьи – уточнить связь этической проблематики булгаковского романа с онтологией изображенного в нем мира. Центральной проблемой данного произведения мы считаем соотношение «Мир – Человек – Истина». Сразу заметим, что вопрос об истине, который в Евангелии звучит как центральный, у Булгакова не только не акцентирован, но и «незаметно» для читателя переформулирован. Пилат спрашивает не «Что есть истина?», а «Что такое истина?» (здесь и далее курсив в цитатах мой. – Е. Я.). Получается, что обсуждению подлежит не сущность, а сама категория истины, смысл слова «истина»: прокуратор как бы просит арестованного объяснить этот смысл.
Характерно, что Иешуа, продолжая цепь недоразумений, дает ответ не на тот вопрос, который задал ему Пилат. Словá Иешуа: «Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти», – переключают внимание на новый аспект проблемы: актуализируется вопрос о возможности постижения истины человеком. Бродячий философ подчеркивает, что мнение Пилата по поводу истины (и о мире вообще) есть лишь производное его болезни; иначе говоря, точка зрения прокуратора поневоле «эгоцентрична» и потому неадекватна. В контексте всего романа ответ Иешуа подчеркивает важнейшую мысль о том, что никто из людей не может знать абсолютной истины, «последней» правды о мире, ибо человеческий взгляд чересчур зависит от случайностей и человек подчас не волен в своих мнениях.
В сущности, Иешуа по-своему повторяет то, что несколькими страницами ранее говорил Берлиозу Воланд, опровергая самонадеянное заявление Бездомного, будто «жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле» якобы «сам человек и управляет»: «…вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас… кхе… кхе… саркома легкого… – и вот ваше управление закончилось. Ничья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует».
Относительность человеческого знания, грозные вторжения хаоса в (казалось бы) предугаданные события – все это не дает оснований человеку преувеличивать свои силы. Однако Булгаков не склонен и преуменьшать их. Судьбы персонажей его романа, не только основных, но и второстепенных, напрямую зависят от них самих; и несмотря на кажущуюся непреодолимость «роковых» сил (тоталитарной власти и т.п.), автор «Мастера и Маргариты» стремится утвердить мысль о непобедимости и моральной состоятельности действительно цельной и целеустремленной личности.
Идея, выраженная фразой из Апокалипсиса, которая стала эпиграфом к «Белой гвардии»: «И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими», – в последнем булгаковском романе трансформируется в одну из важных философских максим: «каждому будет дано по его вере». В творческом сознании Булгакова словá «дело» и «вера», по существу, выступают как синонимы. Понятие «вера» в данном случае вовсе не ограничивается некоей мировоззренческой концепцией, которой субъект привержен на словах. Вера проявляется именно в поступках персонажей – реализована в их делах. Поэтому наше мнение о вере героев может и должно быть сформировано «сообразно с их делами», и в дальнейшем мы будем употреблять слово «вера» именно в расширительном значении интегральной составляющей всех «проявлений» персонажа.
Попробуем вначале сделать вывод о строении того Универсума, в котором существуют булгаковские герои. На первый взгляд ясно, что мир этот весьма фантастичен. Однако говорить о фантастике, мистике, историчности деталей и т.п. имеет смысл лишь при условии, что изображенная реальность так или иначе содержит для этого критерий, точку отсчета – некую границу между реальным и ирреальным. Фантастика существует в том случае, когда читателю ясно, чтó может быть, а чего быть не может; слово «мистика» лишено смысла вне представлений о «естественном» и «сверхъестественном». Однако в художественном мире булгаковского романа всё, рассказанное повествователем, существует «объективно» – только с разных позиций может быть объяснено по-разному. И заслуга Мастера состоит, в частности, в том, что из множества напластований, сплетен, версий, складывавшихся веками, он сумел воссоздать объективную картину происходивших две тысячи лет назад событий.
Сама композиция романа, легко смешивающая «посюсторонний» и «потусторонний» миры, прошлое и настоящее, переносящая действие с одного места на другое, создает впечатление равноправности, одинакового статуса всех сфер художественного мира (времени и пространства); онтологическая «однородность» изображенного еще раз подчеркивает относительность и бедность человеческих знаний о мире, особенно когда нужно «тут же, не сходя с места, изобрести обыкновенные объяснения явлений необыкновенных». Недаром в Эпилоге с иронией описываются попытки объяснить происшедшие события «по-человечески».
Эта ирония вполне понятна читателю, знающему истинную подоплеку многочисленных «чудес». Однако при этом нельзя не заметить, что «разумные» объяснения оказались вроде бы удовлетворительными для тех, кто ничего не знал о Воланде со свитой. После явления и исчезновения этих героев жизнь людей в ее существенных параметрах не изменилась. Да, в Москве сгорело несколько зданий (например, Грибоедов), у нескольких десятков человек были отмечены психические нарушения – но в целом мир людей, осмеянный и, кажется, полностью дискредитированный автором романа, проявляет странную устойчивость и упорствует в своей, пусть «неправильной», логике. Значит ли это, что этот мир настолько закоснел в заблуждениях, что уже неисправим? Или же относительная стабильность человеческого общества свидетельствует о том, что оно – какое бы ни было – тоже имеет право на существование и это существование не нарушает неких «надмирных», вечных законов, а в первую очередь имеет свои собственные?
Пытаясь ответить на этот – очень важный – вопрос, критики с самого начала обращали внимание прежде всего на две фигуры – Иешуа и Воланда, поскольку эти образы вызывают наибольшее количество историко-культурных ассоциаций. Еще в 1970-х годах были сделаны попытки, глубже проникая в суть произведения, пересмотреть трактовку образов Иешуа и Воланда как богочеловека и сатаны. Исследователи, в частности, отметили, что Воланд не занимает подчиненного положения по отношению к Иешуа; более того – деятельность Воланда и К° не вызывает у рассказчика (и читателя) негативного отношения и отождествляется с правосудием. Иными словами, Воланд действует в силу некоторой необходимости, сущность которой важно понять.
Была замечена, кроме того, последовательно выдержанная Булгаковым тенденция избегать в речи повествователя прямого отождествления Иешуа с евангельским Иисусом: если это и делается, то лишь в речи персонажей. Так, фраза Воланда: «Имейте в виду, что Иисус существовал», – звучит в контексте предыдущего разговора Берлиоза с Бездомным, которые употребляли это евангельское имя; в дальнейшем же рассказе Воланд, как бы цитирующий роман Мастера, будет употреблять имя Иешуа. Да и роман Мастера написан не об Иисусе Христе, а о Понтии Пилате: его главным действующим лицом является прокуратор.
Разница между Воландом и Иешуа далеко не равна оппозиции «добро – зло». Принципиальное различие между ними в том, что эти персонажи онтологически «неоднородны»: в общей системе мироздания они стоят на различных ступенях. Показательно, например, что Иешуа через посредство Левия Матвея обращается к Воланду с просьбой по поводу Мастера и Маргариты. Причем данная просьба – не единственная; Воланд говорит по поводу Пилата: «…за него уже попросил тот, с кем он так стремится разговаривать». Для нас остается неизвестным, может ли сам Иешуа наказывать или миловать; зато мы видим, как он просит за других, обращаясь как бы «по инстанции». Вспомним слова Воланда: «Каждое ведомство должно заниматься своими делами». Допустим, в случае с Мастером имеет место разделение функций: «свет» – сфера Иешуа, «покой» – Воланда. Данные понятия, вообще говоря, не антонимичны; кроме того, легко заметить, что полярно противоположные им состояния – «тьма» и «движение» – в булгаковском романе тоже проходят «по ведомству» Воланда; недаром этому персонажу устойчиво сопутствуют образы ночи и полета. Вспомним хотя бы главу «Прощение и вечный приют»: «…Воланд летел тоже в своем настоящем обличье. Маргарита не могла бы сказать, из чего сделан повод его коня, и думала, что возможно, что это лунные цепочки и самый конь – только глыба мрака, и грива этого коня – туча, а шпоры всадника – белые пятна звезд».
Итак, из четырех важнейших онтологических координат романа лишь одна (свет) так или иначе связана с Иешуа. Да и эта связь не абсолютизирована – укажем на два эпизода, в которых «свет» вовсе не оценивается положительно. Во-первых, в сцене допроса солнце, которое так мучает Пилата, не доставляет удовольствия и арестованному: «Пилат поднял мученические глаза на арестанта и увидел, что солнце уже довольно высоко стоит над гипподромом, что луч пробрался в колоннаду и подползает к стоптанным сандалиям Иешуа, что тот сторонится от солнца». А с другой стороны, и Воланд не чужд «свету»: знак скарабея на его груди вызывает ассоциации с древнеегипетской культурой и распространенной в ней солярной символикой.
Воланд несколько раз прямо отожествляется с сатаной, но опять-таки в речи персонажей; это касается и названия главы «Большой бал у сатаны», представляющего собой реминисценцию как из пушкинских набросков к замыслу о Фаусте (ср.: «Сегодня бал у сатаны…»), так и из куплетов Мефистофеля в «Фаусте» Гуно – «Сатана там правит бал» (характерно, что Мастер, сообщив Ивану, что тот встретился с сатаной, сразу же заводит разговор об опере «Фауст», намекая, что на Патриарших присутствовал как бы оперный персонаж). Левий именует Воланда «духом зла и повелителем теней», однако Левий субъективен и догматичен – о чем ему немедленно и напоминает собеседник. Что касается повествователя, то, кажется, лишь однажды он пытается дать Воланду какое-то «родовое» наименование. Вот Маргарита впервые видит «иностранца»: «Взор ее притягивала постель, на которой сидел тот, которого еще совсем недавно бедный Иван на Патриарших убеждал в том, что дьявола не существует. Этот не существующий и сидел на кровати». Маргарита не осведомлена об «интересной истории» на Патриарших прудах, и приведенный фрагмент не может восприниматься как несобственно-прямая речь. Двойственность речевой позиции целиком относится на счет повествователя. С одной стороны, явная ирония по отношению к Ивану: как же «не существует», если вот он, сидит на кровати? С другой стороны, витиеватая, косвенная форма речи свидетельствует как бы о нежелании прямо характеризовать Воланда. Повествователь словно сомневается в очевидном: как же «сидит на кровати», если не существует?
Уже эпиграф «Мастера и Маргариты» наталкивает на мысль о неоднозначности фигуры Воланда. Его образ во многом построен с помощью объединения противоположностей. Об этом говорит, например, портрет – в первую очередь глаза: «Правый глаз черный, левый почему-то зеленый»; «Два глаза уперлись Маргарите в лицо. Правый с золотою искрой на дне, сверлящий любого до дна души, и левый – пустой и черный, вроде как узкое игольное ухо, как выход в бездонный колодец всякой тьмы и теней» (обратим, кстати, внимание, что в двух приведенных цитатах Булгаков – видимо, случайно – перепутал цвета глаз).
Свидетельством авторитетности позиции персонажа служит совпадение оценок, даваемых им и его свитой, с объективно-авторскими оценками: ни одно решение «ведомства Воланда» не вызывает несогласия или протеста. Напротив, мнения Иешуа полной авторитетностью не обладают. Как кажется, ход событий в романе последовательно опровергает два важнейших этико-философических тезиса Иешуа: «…злых людей нет на свете» и «<Нет> большего порока… <чем> трусость» (к этой мысли мы вернемся позже).
С оценочной точки зрения Воланд «нейтрален». Давно было замечено, что его «ведомство» выполняет лишь функцию «катализатора», развивая явление до логического «предела», реализуя его внутренний «закон». Недаром Воланду подвластно время и он способен ускорять или замедлять процессы. «Праздничную полночь приятно немного и задержать», – говорит он; зато неминуемо скорую смерть барона Майгеля можно еще ускорить: «…чтобы избавить вас от этого томительного ожидания, мы решили прийти к вам на помощь». Так же свободно обращается «ведомство Воланда» и с пространством – здесь разнообразные перелеты, мгновенные переносы и, наконец, знаменитое коровьевское: «Тем, кто хорошо знаком с пятым измерением, ничего не стоит раздвинуть помещение до желательных пределов». Правда, Коровьев, как всегда, немедленно шутовски пародирует это, казалось бы, серьезное заявление, распространившись о квартирном вопросе.
Однако может ли Воланд, изменяя пространственно-временные, количественные параметры протекания событий, влиять на них качественно – навязывать или отменять? Напротив: он показан как (в тенденции) не принимающий решений. Объяснение этому, вероятно, в следующем: у него нет позиции, с которой можно было бы их принимать, то есть вовлекаться в эмоционально-волевую сферу. «Всевластный» Воланд поэтому парадоксально несвободен. Он всеведущ и поступает в соответствии с необходимостью, но необходимость эта как бы лежит вне его. Иллюзия полного господства, «царения» Воланда в мире неизбежно возникает потому, что он, естественно, обладает характером с относительно стабильными свойствами (хотя всякий желающий может на собственном опыте убедиться, что сказать об этом характере нечто конкретное и цельное весьма нелегко). В Воланде мы видим, так сказать, олицетворенную сущность Универсума. Хаос, воплощаемый через этот образ, больше похож на Космос, ибо реализуется через цельный и по необходимости «антропоморфный» образ. Мнимая «моральность» Воланда и К° должна восприниматься в рамках художественной условности булгаковского романа: она проистекает из необходимости для автора «человеческими» средствами показать «вне-человеческое», причем показать не сугубо рассудочно, а «во плоти». Характер Воланда создан так, что его доминанты – невозмутимость, монументальность, свобода перемещений во времени и пространстве, склонность к перевоплощениям (более мнимым, чем реальным) – проявляют скрытый смысл, в нем заключенный, соответствуют «глобальности» этого смысла.
Москва – тоже часть Универсума, и в этом смысле Воланд в ней не «появляется» и из нее не «исчезает», но пребывает вечно, как и во всякой иной точке пространства–времени. То бесконечное путешествие, в котором находятся он и его свита и о котором Воланд говорит Маргарите, связано, видимо, с актуализацией в определенном месте и времени кардинальных философских проблем: тогда в нем и «материализуется» Воланд как знак противостоящего человеческому сознанию Универсума. Об этом напоминают и его «присутствие» во время допроса Иешуа, и беседа с Иммануилом Кантом, имевшая место когда-то «за завтраком». В настоящем времени сюжета булгаковского романа «эпицентр» философских и этических поисков человечества перемещается в Москву. Булгаков явно «иллюстрирует» знаменитейшую максиму Канта: Воланд – кантовское «звездное небо», которое «встретилось» в булгаковском романе с «нравственным законом»: имеет место, так сказать, посещение микрокосма макрокосмом.
Находясь «по ту сторону добра и зла», Воланд не включает и не может включать в сферу своих действий этику, предполагающую наличие перспективного идеала, «абсолюта». Воланд сам по себе – абсолют, но его сущность – диалектика противоположностей, взаимоотрицание сторон, а на таком фундаменте позитивная этика построена быть не может, ибо лишена целеполагания, стимула. Единственный «абсолютный» критерий Воланда, sub speciae aeternitatis, – критерий не человеческий и, так сказать, бес-человечный: распространение подобного релятивизма в человеческом мире вело бы к ужасным последствиям (к этому нам еще придется вернуться).
«Внеэтичностью» Воланда обусловлена и его «незлобивость». Он не наказывает и не прощает, хотя внешне его действия часто напоминают суд и исполнение приговора. Смерть Берлиоза, открывающая ряд «наказаний», – не убийство: Воланд лишь знает судьбу собеседника, причем не скрывает этого. Он знает также судьбы буфетчика Сокова, барона Майгеля, Ивана Бездомного – и говорит лишь о том, что неминуемо наступит само – вскоре или в отдаленном будущем. Нет оснований говорить о «подведомственности» Воланду какого-либо специального «чистилища», где обитают грешники, например, гости бала. Принцип «каждому будет дано по его вере» ведет к тому, что «чистилищем» может быть лишь совесть человека (Пилат, Фрида) – если, конечно, у человека есть совесть, что не обязательно. Совесть не имеет отношения к Воланду, как и милосердие. Гости Воланда, несмотря на их общую непривлекательность, верили при жизни, что со смертью существование не кончается, – потому и обрели это «посмертное» существование: правда, наслаждаться им они имеют возможность лишь раз в году – точно так же, как и заявить о раскаянии, если таковое состоялось (пример Фриды в этом отношении показателен). К тому же Воланд не любит балов: «Никакой прелести в нем нет и размаха также, а эти дурацкие медведи, а также и тигры в баре своим ревом едва не довели меня до мигрени». Чтобы внести в «свою» реальность (т. е. в сущности, в космос) этическое начало, Воланду необходим человек: именно в этом прежде всего и состоит смысл приглашения «земной женщины» Маргариты в качестве королевы бала.
Единственный случай, когда, как кажется, можно говорить о каком-то проявлении «свободной воли» Воланда, – давний проступок рыцаря, ставшего Коровьевым-Фаготом: «Рыцарь этот когда-то неудачно пошутил… его каламбур, который он сочинил, разговаривая о свете и тьме, был не совсем хорош. И рыцарю пришлось после этого прошутить намного больше и дольше, нежели он предполагал». Кажется, каламбур задел Воланда «за живое». Но, с другой стороны, неясно, что означает характеристика «не совсем хорош»: имеются ли в виду эстетические достоинства или излишняя смелость по отношению к тайнам бытия. Судя по всему, каламбур оказался, напротив, слишком хорош. Точно так же трудно однозначно ответить, является ли службы Коровьева-Фагота наказанием или наградой. «Рыцарь» (человек) удостоился чести/участи, наряду с «демоном-убийцей» и «демоном-пажом», войти в свиту Воланда. Не означает ли это, что он своим каламбуром сумел прикоснуться к некоей сокровенной тайне бытия?
Вполне понятные попытки читателей и критиков говорить о моральности либо аморальности тех или иных поступков Воланда и К° понятны именно «по-человечески» – ибо никакое явление, поступок или состояние мы не можем воспринять или выразить вне «эмоционально-волевого тона» (М. Бахтин), внеэтически. Более «человекоподобные», чем он сам, спутники Воланда дают еще больше поводов быть заподозренными в «моральности». Но ведь они и более антропоморфны, чем их повелитель: они по необходимости уподобляются миру, в котором воплотились, – в том числе в типично человеческих моделях поведения. Однако полного уподобления здесь нет и быть не может: вечное не растворяется во временном «без осадка». Поэтому спутники Воланда своей эксцентричностью напоминают то ли самодеятельный театр, то ли бродячий цирк; и чем серьезнее стараются они быть, тем смешнее.
Эмоциональной сущностью внеэтического «воландовского» мира являются либо холодное равнодушие, бесстрастие, либо «абсолютный» смех как самоцель, осмеивающий и сам себя, причем совершенно бескорыстно. Индифферентизм «с точки зрения вечности» и «абсолютный» смех здесь равновелики и притом плодотворны: бесстрастие лишено уныния и пессимизма, а «глумление» парадоксально приводит к утверждению нового (эта идея зафиксирована, в частности, в эпиграфе). Воландовский континуум не может быть соотнесен с понятиями «инфернальное», «сатанинское» в традиционном смысле этих слов. Антихрист вовлечен в этическую (то есть человеческую) систему координат – таков в романе, скажем, Абадонна (имя которого уже этимологически значит «губитель»), воплощение идеи Смерти. Хотя он и существует как «надмирная» сила разрушения и гибели, но изображен как функция человеческих отношений и представлений. «Он на редкость беспристрастен, – говорит о нем Воланд, – и равно сочувствует обеим сражающимся сторонам. Вследствие этого и результаты для обеих сторон бывают всегда одинаковы… Кроме этого, никогда не было случая, да и не будет, чтобы Абадонна появился перед кем-нибудь преждевременно». Абадонна – отвлеченная функция морально-философских представлений человечества; представления эти исторически обусловлены, и Абадонна вечен лишь потому, что смерть – неотторжимый атрибут жизни. При этом в романе Булгакова смерть – понятие относительное, и встреча с Абадонной означает для человека достижение некоей «грани», за которой существование либо прекращается, либо начинается в какой-либо иной форме.
Итак, по поводу образа Воланда можно сказать, что его онтологической сущностью являются единство и борьба противоположностей, бесконечность времени и пространства. Олицетворяемая им абсолютная истина (еще раз подчеркнем, что данная категория не связана здесь с этическим началом) в принципе невыразима. Множественность характеристик, даваемых Воланду, хорошо демонстрирует тщетность попытки «объять необъятное», воплотить его в слове: «иностранец» – «профессор» – «черный маг» – «сатана»; наконец, просто Воланд – имя собственное, уникальное по определению. Наличие в романе Булгакова персонифицированной абсолютной истины совсем не означает, что тем самым герои романа получили возможность услышать «последнее слово» о мире. Даже частный факт, переходя в субъективный план, подвергается искажению – а выразить его словом, не исказив, вообще задача из труднейших.
Еще Лев Толстой в романе «Война и мир» писал: «Рассказать правду очень трудно» (т. 1, ч. 2, гл. 7). Люди лгут не из порочности (не только из порочности): как поясняет Толстой, события излагаются очевидцами «так, как им хотелось бы, чтоб оно было, так, как они слыхали от других рассказчиков, так, как красивее было рассказывать, но совершенно не так, как оно было… Для того, чтобы рассказать все, как было, надо… сделать усилие над собой». Такая «ложь» гносеологически неизбежна, «соприродна» любому познающему субъекту. В этой связи характерны мучения Ивана Бездомного, пытающегося описать все, что происходило накануне вечером с ним и с Берлиозом: «Иван работал усердно и перечеркивал написанное, и составлял новые слова, и даже пытался нарисовать Понтия Пилата, а затем кота на задних лапах. Но и рисунки не помогли, и чем дальше – тем путанее и непонятнее становилось заявление поэта». Точно так Левий Матвей искажает факты, очевидцем и участником которых он был. Вспомним слова Иешуа: «…ходит, ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил. Совершенно исключено, что Левий намеренно извращает факты и слова Иешуа; видимо, он убежден, что фиксирует все абсолютно точно: он «так слышит». На этом фоне резко выделяется роман Мастера, отвечающий самым высоким критериям объективности.
Но, как бы то ни было, идя путем заблуждений и ошибок, постигает ли человечество истину? И вообще, есть ли в мире некие законы, от которых зависит его существование и движение – если, конечно, движение присуще миру?
В контексте рассуждений о всеведении Воланда, о точном знании им судеб многих персонажей, о его абсолютной справедливости, наталкивающей на мысль об отсутствии свободы воли, целесообразно задуматься о роли судьбы и случайности в романе. В сюжете «Мастера и Маргариты» довольно много случайностей, причем весьма важных. Так, без выигранных Мастером денег не было бы, вероятно, в его жизни ни романа, ни Маргариты. Рассказывая Ивану про то, как попал в клинику, Мастер поясняет: «…Меня спасла случайность». В том же эпизоде читаем: «Иван узнал, что гость его и тайная жена уже в первые дни своей связи пришли к заключению, что столкнула их на углу Тверской и переулка сама судьба и что созданы они друг для друга навек». В последнем примере случайность приобретает характер необходимости; но, конечно, самое знаменитое заявление о всеобщей необходимости, царящей в мире, звучит еще на первых страницах романа, когда Воланд провозглашает: «Кирпич ни с того ни с сего… никому и никогда на голову не свалится».
Означает ли все это, что в художественном мире романа есть нечто более высокое, чем Воланд? И если Воланд не может сопротивляться судьбе (речь, конечно, идет не о его судьбе, ибо судьба – атрибут «временного» бытия), то может ли человек как-либо влиять на судьбу, в том числе на свою? Кажется, нет оснований утверждать, что в романе есть сила, которая бы «авансом», целесообразно управляла событиями. Подобная точка зрения свойственна Мастеру и Маргарите («столкнула их… сама судьба»), но все же факты жизни героев еще не дают оснований видеть руку провидения (если употребить это слово в «терминологическом», а не обиходном смысле). Зато есть в романе примеры того, как персонажи пытаются взять на себя функции судьбы, «подправить» ее, придавая причинно обусловленным, нормально-логичным событиям видимость беспричинных, «чудесных». Так, «добрые люди», которые «ничему не учились и все перепутали», «сотворили» Богочеловека из бродячего философа Иешуа. Такова в романе Булгакова и история смерти Иуды: версия самоубийства, «навязанная» Пилатом, оказывает сильное воздействие на концепцию христианской морали. Характерно, что Левию Матвею правда о смерти Иуды известна – однако «правда» Пилата оказалась жизнеспособнее.
В целом случайности, кажется, нигде не препятствуют саморазвитию явления (характера). Левий не успевает к Иешуа (причем дважды), как опаздывает Маргарита в ночь ареста Мастера, – но, с другой стороны, могли ли они чем-нибудь помочь тем, к кому спешили. Недаром Воланд утверждает: «Все будет правильно, на этом построен мир». Несмотря на временную «несправедливость», тягостность судьбы человека, время – главный инструмент Воланда – в конечном счете все расставляет по своим местам. Речь идет не о традиционном христианском «воздаянии» или «суде»: Воланд является лишь гарантом неостановимости времени, постоянства перемен.
Свет и тьма существуют в мире «до человека», однако именно у людей соответствующие слова обретают переносные значения. Не потому ли не могут понять друг друга Левий и Воланд? Для Воланда Левий – «раб», догматик; для Левия Воланд – «старый софист». Однако они оба правы: только граница, лежащая меж ними, непроходима для обоих: Воланд не может «опуститься» (или возвыситься?) до этики, ибо в этом случае Универсум стал бы телеологичным, начал бы двигаться в одну сторону сам по себе; Левий же не может «возвыситься» до Воланда. Последний, естественно, понимает ситуацию лучше: «Мы говорим с тобой на разных языках, как всегда».
Существование вне идеала для человека невозможно; в каждый момент жизни он «выбирает» ту или иную систему этических координат и в ней действует. Моральный выбор (разумеется, не всегда сознательный) и последовательное проведение своих принципов в жизнь требуют от личности героизма, подвига: подобная личность моральна и свободна – таковы у Булгакова, например, Иешуа, Маргарита и Левий Матвей. Отказ же (в той или иной форме) от выбора не есть, конечно, переход во «внеэтическое» состояние: объективно это подлаживание под какую-то наличную позицию, сколь угодно эклектичную и непоследовательную, а субъективно – движение по инерции, ведущее к аморализму. Персонажей подобного типа в романе много: Пилат в истории с Иешуа, многочисленные «деятели искусства» (МАССОЛИТ, Варьете) – и, в известном смысле, Мастер.
Связь человека с идеалом, поиск истины порождают различные экзистенциальные состояния и влекут к разным видам деятельности. Поэтому сближены у Булгакова такие понятия, как вера, любовь, подвиг, преданность, творчество. Принципиально не важно, что преданность очень напоминает рабство: «...тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит». В самом деле; уместно, например, чувства Левия и Маргариты и их преданность назвать «собачьими», а те же качества Банга – «человечьими» (Иешуа, кстати, не видел ничего оскорбительного в сравнении человека с собакой). Самозабвенное следование своей «вере» (это слово, повторим, отнюдь не обязательно имеет религиозный смысл) гарантирует высокую моральность личности, независимо от практических результатов поступка.
Проблема «человек и идеал» связана прежде всего с образом Иешуа. Если воспринимать реминисценции именно как таковые и обращать внимание в первую очередь на факты, можно сказать, что Иешуа – личность, безусловно, неординарная, но не более того. Будучи абсолютно искренним («Правду говорить легко и приятно»), он погибает, видимо, неожиданно для себя – этим, как кажется, объясняется его поведение перед казнью: «Он все время пытался заглянуть в глаза то одному, то другому из окружающих и все время улыбался какой-то растерянной улыбкой», – рассказывает Афраний. Хотя Иешуа искренне верит в своего бога, в его словах странным образом заложена идея о том, что никакая вера не абсолютна. «Рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины» – на смену одному храму создается другой, одну веру сменяет другая.
Используя евангельский сюжет, Булгаков в своем романе сопоставляет с ним «другое» повествование о тех же событиях – роман Мастера. Разность точек зрения этих текстов имеет огромное значение. Евангелие не игнорируется автором «Мастера и Маргариты» и взамен не сочиняется «собственное»: евангельская концепция мира присутствует у Булгакова наряду с романом Мастера. Видимо, мы вправе считать Левия Матвея евангелистом – во всяком случае потенциальным. Конечно, проповеди Иешуа слышали многие, и слова возымели действие (недаром Каифа связывает с появлением философа начало волнений в Ершалаиме); но Левий, во-первых, ведет записи (прообраз будущей книги), во-вторых, его имя вызывает прямые ассоциации с автором одного из Евангелий. При этом, как мы помним, недостоверность текста Левия констатируется самим Иешуа, который предвидит судьбу своего учения на долгие годы: «Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое время. И все из-за того, что он неверно записывает за мной».
Что касается Мастера, его объективность удостоверяется «очевидцем» – Воландом. Рассказ (больше напоминающий «показ») о допросе, составляющий вторую главу булгаковского романа (и, видимо, первую главу романа Мастера), как впоследствии узнает читатель, буквально совпадает с текстом, написанным Мастером: Воланд как бы не ищет новых слов, а «цитирует» документально точный текст.
Обратим внимание и на то, что способ фиксации истины в булгаковском романе не важен: искусство здесь не выше других форм сознания, создающих тексты. Из трех «авторов» (Левий, Мастер, Бездомный) лишь последний может быть назван собственно художником. Левий, как он сам полагал, писал хронику, стремясь точно зафиксировать обстоятельства жизни и учение Иешуа, а получилось у него нечто иное – миф, не содержащий, во всяком случае, «правды факта» (без которой хроники нет). Мастер именует свой текст романом – но, строго говоря, пишет именно хронику, хотя и не был очевидцем событий. Кроме того, в тексте Мастера практически отсутствует оценочный план – то, что называют «авторской позицией».
Истина не «закреплена» за каким-либо одним видом духовной деятельности: всё, в чем воплощается, «материализуется» вера, – истинно. Личностное начало имеет в романе Булгакова столь важное значение, что человек здесь как бы создает мир словом, становясь творцом в высоком смысле. Не будь Левия Матвея, не было бы созданного его нетвердой рукой Иисуса, не было бы евангельского мифа, который активно влиял на общественное сознание в течение двух тысяч лет (да и в настоящем времени романа не утратил своего влияния). Оттого и Иван не сумел своей поэмой разрушить миф: в его «антирелигиозном» творении Иисус «получился ну совершенно как живой, хотя и не привлекающий к себе персонаж». У Левия Богочеловек был добрым – у Ивана вышел непривлекательным. Лишь в тексте Мастера Иешуа «совпал с самим собой» – утеряв, однако, божественные черты. «Угадав» Иешуа на месте «традиционного» Иисуса, Мастер тем самым создал предпосылку «новой веры». В известном смысле он завершил работу, начатую Левием в русле того процесса, о котором говорил Иешуа («рухнет храм старой веры»). Творение Левия в свое время ознаменовало явление «нового храма»; теперь и он рухнул – время строить очередной. Таким образом, появление романа Мастера (оставшегося неизвестным практически никому, кроме Алоизия и Ивана) знаменует смену этико-философской парадигмы, когда на смену двухтысячелетнему мифу должно прийти новое учение, в центре которого окажется человек. С учетом этого «явление» Воланда в Москве не выглядит случайностью.
Как автор романа, вобравшего в себя и Пилата, и Иешуа, Мастер «превзошел» последнего в могуществе. Поэтому освобождает Пилата именно Мастер (правда, уже умерший). В силу человеческих законов (милосердие) Маргарита в роли королевы бала освобождает Фриду.
Объективно говоря, творения Левия и Мастера неравноценны в смысле «качества» – авторы несопоставимы по таланту: такое впечатление поддерживается на протяжении всего романа. Тем не менее Мастер все-таки «не заслужил света», а Левий – заслужил. Усилие, приложенное человеком для достижения какой-либо цели, само по себе результата еще не гарантирует, но для оценки человека имеет большое значение. Мотивы и результаты поступка (то есть его субъективная и объективная стороны) как бы разграничены в плане оценки. С точки зрения автора «Мастера и Маргариты» намерение, стремление говорят о значимости поступка гораздо больше, нежели его результаты.
Поэтому удар Булгакова-сатирика направлен не против субъективно честных, хотя и проблематичных по результату поступков, а против деяний заведомо неправедных. Характерно, что ни фанатизм, ни догматизм в «Мастере и Маргарите» всерьез не осуждаются: верить можно во что угодно, даже не понимая многого в своей вере (Левий), но коль скоро такая способность вообще у человека есть, он не безнадежен. В силу этого не подвергаются явной критике или осмеянию персонажи, верящие даже в объективно неправедное или бесполезное дело. Например, Каифа, своими средствами борющийся с Пилатом и, видимо, с метрополией вообще, по-своему прав, настаивая на казни Иешуа. Сам бродячий философ Каифе в принципе безразличен – первосвященник уничтожает опасность, грозящую Ершалаиму, «народу иудейскому» и в этом смысле поступает логично (хотя Иешуа от этого не легче). И лишь с легким юмором рисует Булгаков чекистов, безуспешно стремящихся бороться с «нечистой силой». Их действия не приносят желаемых результатов, но сами эти люди, пытающиеся, например, арестовать Коровьева и Бегемота (в квартире № 50, в ресторане Грибоедова) мужественны и самоотверженны.
Гораздо более актуальна проблема отступничества, измены своей вере (мы избегаем слова «предательство» по причинам, о которых скажем ниже). Ситуации компромисса с совестью прямо соотносятся с мыслью Иешуа о том, что все люди добры и лишь трусость мешает им осознавать это. С точки зрения бродячего философа, любой человек, несмотря на свои явные недостатки, сохраняет «душу живу». Совесть, производное от веры, всегда «сигнализирует» об истинной нравственной стоимости поступка. Трусость пытается заглушить голос совести – однако, к счастью, эти попытки никогда не бывают вполне успешными.
Насколько Иешуа прав, мы еще задумаемся; пока же обратимся к персонажам, судьбы которых, как кажется, вполне подтверждают мнение бродячего философа. Центральной фигурой, конечно, является Пилат, совесть которого на время побеждена, но не уничтожена. Ощущение несвободы, внутренней раздвоенности порождает агрессивность, выдающую себя за пафос, то есть маскирующуюся под сугубую убежденность. Так, в бессильной ярости Пилат кричит, что царство истины никогда не настанет: он уже понял, что Иешуа не спасти. Точно так же критики, травящие Мастера, «говорят не то, что они хотят сказать, и... их ярость вызывается именно этим». Кстати, полубольной Мастер тоже знаком с этим состоянием: во время рассказа об аресте «в глазах его плавал и метался страх и ярость». Характерно, что люди, испытавшие подобную раздвоенность, наделены высокоразвитым интеллектом: они не могут «не ведать, что творят». Тем тяжелее драма победы (пусть временной) инстинктов над духом; ибо главный инструмент принуждения – страх. Кажется, из первостепенной важности героев романа лишь двое не боятся ничего – Маргарита и Левий Матвей.
Ситуация морального компромисса весьма распространена в человеческой среде. Однако для Булгакова поступок, сопровождаемый внешним принуждением (страхом), в принципе простителен. Чувство страха, поборовшее человечность, впоследствии осуждается и вытесняется совестью. А поскольку в «Мастере и Маргарите» человеческое существование бесконечно во времени, поступок человека определяет его судьбу как до, так и после смерти. Пилат проводит в одиночестве «двенадцать тысяч лун»; Фрида – тридцать лет.
В сущности, многие эпизоды романа подтверждают тезис Иешуа о неистребимости добра в человеке. Видимо, о том же говорит Воланд во время сеанса черной магии: «Ну, легкомысленны… ну, что ж… и милосердие иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди». И позже, после бала, Воланд вновь упоминает о милосердии: «Иногда совершенно неожиданно и коварно оно пролезает в самые узенькие щелки».
Итак, возможность искупить вину и быть прощенными открывается для многих персонажей романа. Но для всех ли? Ряд булгаковских персонажей не может быть включен в категорию «отступников»: это прежде всего Иуда и его двойник – Алоизий Могарыч. В системе евангельской морали одним из самых тяжелых считается «иудин грех» – предательство. Но для двух названных персонажей нередко применяемое к ним понятие «предатель» не подходит. То, что в обыденной жизни называется предательством, зачастую может быть сведено к отказу от убеждений вследствие трусости или каких-либо иных причин (возможна ведь и сознательная, принципиальная перемена позиции). Что касается действий Иуды и Алоизия (а также барона Майгеля), более точное название для их поступков – провокация. Предателем может стать лишь друг, единомышленник; Иуда и Могарыч с самого начала не являются, а лишь прикидываются друзьями Иешуа и Мастера. Ни к Иуде, ни к Алоизию не имеет отношения мотив трусости. Очень важно, что провокаторы – не тупые, дегенеративные автоматы, а люди умные, красивые, даже обаятельные. Так, Иуда – «горбоносый красавец»; его мертвое уже лицо «представилось смотрящему белым, как мел, и каким-то одухотворённо красивым». Про Алоизия Мастер рассказывает: «… нигде до того я не встречал и уверен, что нигде не встречу человека такого ума, каким обладал Алоизий». Эти люди полностью ответственны за свои поступки. Им также присуще чувство страха, а Иуде – даже любви, но главной движущей силой для них является алчность. Об Иуде Афраний сообщает: «У него есть одна страсть… Страсть к деньгам. У Алоизия Азазелло осведомляется: «Это вы, прочитав статью Латунского о романе этого человека, написали на него жалобу с сообщением о том, что он хранит у себя нелегальную литературу?.. Вы хотели переехать в его комнаты?». Жадность и зависть – пружины провокации.
Вполне ясно, почему Булгаков не следует традиционной версии о самоубийстве Иуды. Покончить с собой мог бы именно предатель – отступник, испытавший чувство раскаяния. Пилат, «подбрасывая» версию самоубийства, стремится лишь обезопасить себя и своих «сотрудников», а отнюдь не «облагородить» Иуду. Тип провокатора не содержит никаких внутренних предпосылок к раскаянию. Конечно, представший перед «ведомством Воланда» Могарыч напуган, однако непохоже, чтобы его «слезы раскаяния» были искренними: последующая деятельность Алоизия на посту финдиректора Варьете это подтверждает. Единственная ценность и «абсолютная истина» для людей, подобных Иуде и Могарычу, – их собственная персона.
Мы отмечали, что объект веры не имеет в булгаковском романе существенного значения: вера и «контр»-вера, если они не фальшивы, с субъективной точки зрения не различаются. Иное дело, если нет веры ни во что, кроме как в наличное, «здесь и сейчас» данное свое собственное существование. Само слово «вера» тут неприменимо, ибо подлинный идеал по определению должен находиться за пределами налично данного. В случае с Иудой и Алоизием речь идет о безверии – полном отсутствии способности выйти за рамки «эго». В морально-философской системе романа Булгакова такое мироощущение выглядит как отказ признать основной постулат существования человека в мире и стремление в этическом мире существовать «вне этики»: проблема далеко не новая для русской литературы.
Тенденция к подобному мироощущению прослеживается на деле у многих «отрицательных» героев «Мастера и Маргариты» – прежде всего из числа членов МАССОЛИТа и руководителей Варьете. Недаром эти персонажи часто изображаются в процессе отрицания, но не утверждения чего-либо взамен. Так, Берлиоз пытается убедить Ивана в том, что Иисуса никогда не было, но не объясняет – что было? Закономерна реплика Воланда: «…что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!» Травля Мастера разворачивается через отрицание не художественных достоинств его книги (они, наверное, и для критиков бесспорны), а самой темы романа. Рассказывая о разговоре с редактором, герой вспоминает: «Вопросы, которые он мне задавал, показались мне сумасшедшими. Не говоря ничего по существу романа, он спрашивал меня о том, кто я таков и откуда я взялся, давно ли пишу и почему обо мне ничего не было слышно раньше, и даже задал, с моей точки зрения, совсем идиотский вопрос: кто это меня надоумил сочинить роман на такую странную тему?» Что касается сеанса «черной магии», здесь «вся соль в разоблачении» – недаром Аркадий Аполлонович Семплеяров настаивает: «Все-таки желательно, гражданин артист, чтобы вы незамедлительно разоблачили бы перед зрителями технику ваших фокусов…» Такая деструктивная направленность находит крайнее выражение в «деятельности» Иуды и Алоизия. Провокация – тоже разрушение: маскируясь под веру, она дискредитирует ее, разрушая в людях самую способность верить, убивает чувство открытости к окружающим, поселяет в душах страх и подозрительность. Основанная на безверии, провокация, таким образом, есть преступление против веры.
Эгоцентризм провокатора носит «центростремительный» характер: прерываются живые контакты человека с миром как в пространстве, так и во времени – наступает состояние «войны против всех». Всеобъемлющий релятивизм, в отличие от диалектики, противостоит идее движения во времени и пространстве. Подобно вере, он требует личной активности, но иного рода. Злобная суета – форма борьбы за собственное выживание. «Моменты истины» здесь неплодотворны и приводят лишь к нападкам на самого себя («унижение паче гордости»), а вслед за этим – к удвоенному озлоблению против всего окружающего. Так, Рюхин, рассказывая Арчибальду Арчибальдовичу о поездке в клинику Стравинского, «понял, что тот хоть и задает вопросы о Бездомном и даже восклицает “ай-яй-яй!”, но по сути дела, совершенно равнодушен к судьбе Бездомного и ничуть его не жалеет. “И молодец! И правильно!” – с цинической самоуничтожающей злобой подумал Рюхин».
Подобное мироощущение в принципе самоубийственно. Поэтому, например, действия «ведомства Воланда» в отношении барона Майгеля не выглядят как произвольные, а реализуют тенденции, внутренне присущие данному человеческому типу. «…Есть предположение, – говорит Воланд о наушничестве барона Майгеля, – что это приведет вас к печальному концу не далее, чем через месяц». Объективно циник изолирован от мира, сам себя «вычеркивает» из него; но осознать и оценить эту ситуацию он не может, ибо не обладает позицией для самооценки: сам для себя он всегда хорош и непогрешим. Поэтому Иуда не кончает (и никогда бы не покончил) с собой, и не убей его люди Афрания, его убил бы Левий. В Эпилоге булгаковского романа мы узнаем, что «произошли многие изменения в жизни тех, кто пострадал от Воланда и его присных»: удалился от дел Жорж Бенгальский, приобрел «невероятную отзывчивость и вежливость» Варенуха, превратился в молчаливого женоненавистника Степа Лиходеев, Аркадий Аполлонович Семплеяров стал добросовестным грибным заготовителем, и т.д. Лишь с Алоизием Могарычом подобной перемены не произошло: «…как раньше Римский страдал из-за Степы, так теперь Варенуха мучился из-за Алоизия. Мечтает теперь Иван Савельевич только об одном, чтобы этого Алоизия убрали из Варьете куда-нибудь с глаз долой, потому что, как шепчет иногда Варенуха в интимной компании, “такой сволочи, как этот Алоизий, он будто бы никогда не встречал в жизни и что будто бы от этого Алоизия ждет чего угодно”».
Поэтому мы склонны утверждать, что максима Иешуа «злых людей нет на свете» не выдерживает критики в булгаковском романе. Иешуа просто не может представить себе человека, не верящего вообще ни во что (вот уж действительно – ни Бога, ни чёрта, ничего нет). Можно предать веру из трусости, но не иметь ее в принципе – невозможно: это противоречило бы человеческой природе, как понимает ее Иешуа.
Вспоминая то, что говорилось выше об онтологической сущности образа Воланда в романе, и сравнивая с этим моральный релятивизм некоторых представителей рода человеческого, можно уловить ряд сходных черт. Но – существеннейшая разница: «потусторонние» силы, вторгаясь в человеческий мир, справедливы и в общем «гуманны» – а силы «посюсторонние», стремясь выйти из-под действия человеческих, нравственных законов, начинают являть собой квинтэссенцию зла: индифферентность sub speciae aeterniatis выглядит как жестокий эгоцентризм, унылый и далекий от какого-либо проблеска комического. «Словом, ад», – замечает повествователь по поводу сцены в «грибоедовском» ресторане; и действительно, именно здесь сосредоточено инфернальное начало мира.
Характерно, что почти все «наказания», которым подвергаются персонажи, связаны с помешательством или аффектом. Мотив отрезанной, оторванной головы (Берлиоз, Жорж Бенгальский) заставляет задуматься о соотношении бессознательного, инстинктивного – и интеллектуально-духовного (оппозиция «тело – голова»). Баланс двух этих начал, определяющий сущность человеческой природы, подвергается испытанию на прочность при столкновении человека с Универсумом, воплощенным в образе Воланда. Тот, в ком духовное, нравственное начало не сильно, не может сопротивляться хаосу и движется к безумию (в прямом или переносном смысле лишается головы). Но безумие производит и катартический эффект, совершающийся прорыв к Истине стимулирует перерождение персонажа. Наиболее яркий пример – судьба Бездомного: перенесший потрясение и аффект в клинике Стравинского, Иван постигает правду насчет своих стихов – он «впервые вдруг почувствовал какое-то необъяснимое отвращение к поэзии, вспомнившиеся ему тут же собственные его стихи показались почему-то неприятными». Выплескивающееся наружу бессознательное обусловливает стихийный протест против несправедливости – словно прорывается долго молчавшая человечность. Так «прозревают», например, «девица» из филиала Зрелищной комиссии и старичок в магазине Торгсина. Как бы помимо воли задает Пилат во время допроса Иешуа вопрос об истине, и в голову его непонятно почему лезут мысли «о каком-то долженствующем непременно быть – и с кем?! – бессмертии». Характерно, что раскаяние приходит к Пилату во сне, когда сознание «молчит». Именно в моменты, когда рассудок отключается или работает «вполнакала», обнаруживается истинная сущность характера. Конечно, погружения в хаос не изменяют характер кардинально, они лишь «катализируют», ускоряют медленно идущие процессы – в этом, как отмечалось, состоит основная функция «ведомства Воланда».
Возвращаясь к оппозиции «свет – покой», необходимо поставить вопрос: награждены или осуждены в конце концов Мастер с Маргаритой – и за что?
Несмотря на «читательское» сочувствие к Мастеру, есть резон в утверждении ряда критиков и исследователей, которые полагают, что потерявший интерес к жизни и к своему роману герой Булгакова недостоин света и как бы наказан покоем. Вместе с тем покой – именно то, к чему Мастер более всего стремился; это подтверждается, в частности, словами Маргариты: «...слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали в жизни, – тишиной». Отметим, что в обыденной речи понятие «покой» не связывается однозначно с представлениями о наказаниях. Кроме того, покой дан и Маргарите, а уж по отношению к ней ни о каких наказаниях говорить не приходится, ибо это самый светлый образ романа Булгакова.
Для ответа на поставленный вопрос необходимо вначале представить характер Мастера и его судьбу, не отрывая биографию героя от написанного им романа. Как мы уже подчеркивали, Мастеру открылась истина, и он зафиксировал ее. И, подчеркнем, выступил как потенциальный богоборец: ведь из его романа явно следует, что Евангелие не содержит «правды факта», – стало быть, отрицается вся евангельская концепция мира. Но соответствует ли собственное мироощущение Мастера той грандиозной задаче, которую он выполнил?
Мы говорили, что в этической системе Булгакова мотивы поступка для оценки субъекта значат обычно больше, нежели результаты. В этом отношении весьма показательно, что рассказывая о себе, Мастер почти полным молчанием обходит причины и цели написания им романа. Пояснение на этот счет (в форме несобственно-прямой речи, в «протокольном» стиле) звучит так: «Нанял у застройщика две комнаты в подвале маленького домика в садике. Службу в музее бросил и начал сочинять роман о Понтии Пилате». Главным фактором можно считать желание уйти от современности, обретя иллюзорное существование в ином времени. Логика характера Мастера такому объяснению не противоречит: действительно, он человек не от мира сего, абсолютно не знающий (и не желающий знать) окружающей жизни. «Историк по образованию», он не только в своей профессиональной деятельности, но и психологически постоянно стремится в прошлое, «в мир иной».
«И, наконец, настал час, когда пришлось покинуть тайный приют и выйти в жизнь», – жалуется Мастер. Постоянным качеством его характера можно считать его стремление к укромности, незаметности собственного существования для окружающих; если это скромность, то принявшая уже болезненные формы. Поэтому слова «тайный приют», «подвал», «тайная жена» более многозначительны, нежели просто биографические реалии. Мастер все время как бы прячется от жизни. Легко можно было бы найти предпосылки этого, вспомнив биографию самого Булгакова и социально-психологическую ситуацию 1930-х годов, однако в булгаковском романе подобное мироощущение героя не мотивировано; остается предположить, что оно присуще Мастеру чисто субъективно. Герой боязлив, необщителен; а друг – вероятно, первый в жизни – у него «завелся» лишь в период тяжелых потрясений, связанных с судьбой романа. Характерно и, в общем, неудивительно, что этим «другом» оказался Алоизий Могарыч! Создавая роман, Мастер не осознавал намерений и не ставил определенных целей. Поэтому, написав бесспорно гениальную (учитывая трудность воплощения истины в слове) книгу, он, получается, не совершил «подвига».
То, что роман Мастера обернулся именно хроникой, тоже заставляет задуматься о личности бывшего историка. Хроника лишена оценочной позиции: Мастер никого не стремится вознести или осудить. Воланд как бы цитирует текст, написанный Мастером: похвала это или осуждение в адрес последнего? Видимо, то, и другое. Воланд излагает факты. Но между фактом и его субъективной интерпретацией – то есть между «истиной» и «правдой» – довольно существенная разница. Левий Матвей, слепо веривший в свою правоту, исказивший факты и создавший миф, принес в мир «правду», ставшую на столетия «руководством к действию». Парадоксально, но роман Мастера слишком фактичен, «слишком хорош», чтобы стать «новой правдой» (новым мифом?): в этом его достоинство и недостаток одновременно.
То, чего недоставало роману Мастера и его автору, было сделано Маргаритой: именно она «извлекла» из книги Мастера этическую программу – сделала это в соответствии со своим пониманием и утвердила свои принципы собственной жизнью. Вспомним, как Мастер, рассказывая Ивану Бездомному о Маргарите, «шепотом вскрикивал, что он ее, которая толкала его на борьбу, ничуть не винит, о нет, не винит!» Дав своему возлюбленному гордое имя Мастер, Маргарита тем самым как бы требует от него привести миропонимание и поступки в соответствие с новой «моделью поведения» – ибо быть Мастером значит занять конкретную моральную позицию, позицию борца хотя бы за собственный роман. Мастер же отказался от своего детища, давая повод быть обвиненным в отступничестве.
Впрочем, одно – очень важное – обстоятельство не дает нам права для подобных обвинений. С первого и до последнего момента своего пребывания на страницах романа (мы имеем в виду «земное» существование) Мастер не может полностью контролировать свою психику. Трудно назвать его безумным, но и полностью здоровым считать нельзя. Не выдержала здесь сама человеческая «природа»: «…Меня сломали, мне скучно, и я хочу в подвал… Он мне ненавистен, этот роман». В этом смысле Мастер, так сказать, «неподсуден». Вернее, подлежит оценке не с позиций справедливости, а с позиций милосердия. И в чем бы ни был виноват герой, ничто не может быть в полной мере поставлено ему в вину.
Интересно брошенное вскользь предложение Воланда начать писать новый роман: «…если вы исчерпали этого прокуратора, ну, начните изображать хотя бы этого Алоизия». В контексте предыдущих рассуждений роман об Алоизии (а значит, об Иуде) стал бы дальнейшим шагом в исследовании глубин мирового зла. Но Мастер отказывается: «неинтересно». Кроме того, взявшись писать о Могарыче, он принялся бы писать о современности (как в свое время Левий) – однако о событиях настоящего времени безоценочно писать нельзя. Мастеру пришлось бы стать одним из героев нового романа и оценить не только Могарыча, но и себя самого. А для этого необходимо занимать в жизни более определенную позицию, чем та, которую способен занимать Мастер.
Стремясь оборвать связи с миром, ища покоя, надеясь доживать век в арбатском подвале, герой Булгакова готов и на то, что Маргарита «образумится, уйдет». Не будь сознание Мастера помрачено, мы сказали бы, что он эгоистически жертвует своей возлюбленной; по существу, все самоотвержение, вся любовь героини оказываются ненужными и напрасными. «Я умоляю тебя, – жалобно попросила Маргарита, – не говори так. За что же ты меня терзаешь? Ведь ты знаешь, что я всю жизнь вложила в эту твою работу».
Поэтому выход, найденный Воландом по просьбе Иешуа, выглядит как максимально справедливый компромисс между отступничеством Мастера и подвигом Маргариты. На земле такой выход невозможен, и герои будут убиты. Покой – атрибут движения, и дать его может лишь Воланд: остановить время и, в известном смысле, предать забвению. Вскоре после расставания с Воландом «память Мастера, беспокойная, исколотая иглами память стала потухать». Вместе с тем «вечный приют» связан с возвышенным, романтическим прошлым, куда Мастер так стремился при жизни и где Маргарита сможет не страдать, ибо не будет страдать он. Сама идея «мастера», не защищенная в полной мере жизненной практикой героя, не будет, однако, и дискредитирована.
Впрочем, стремление человека «умалить» себя, действовать ниже своих способностей и возможностей вызывают в романе насмешку. Например, Воланд осведомляется: «Итак, человек, сочинивший историю Понтия Пилата, уходит в подвал, в намерении расположиться там у лампы и нищенствовать?» И вторит ему Азазелло: «…вас ли я слышу? Ведь ваша подруга называет вас мастером, ведь вы мыслите, как же вы можете быть мертвы? Разве для того, чтобы считать себя живым, нужно непременно сидеть в подвале, имея на себе рубашку и больничные кальсоны? Это смешно!» Иными словами, стремление к покою простительно Мастеру, но вряд ли идея покоя лежит в основе авторского идеала «Мастера и Маргариты».
В более ранних вариантах романа неоднозначность понятия «покой» была более активно смещена в «отрицательную» сторону. Что касается последней редакции «Мастера и Маргариты», здесь покой – амбивалентная «награда». Подобно эпизоду с наградой/наказанием рыцаря, ставшего Коровьевым-Фаготом, двойствен – хотя опять-таки в высшей степени справедлив по-человечески – финал судеб Мастера и Маргариты. Но образ будущего в романе связан все же не с этими героями. А вопрос о будущем человечества необходимо должен быть поставлен, ибо, как мы пытались показать, Булгаковым создан образ бесконечного мира.
Закономерным и символичным выглядит появление на последних страницах романа «рыжеватого, зеленоглазого» профессора-историка Ивана Николаевича Понырева. Очевидно, образ исторической науки как символа «связи времен» является для автора важнейшим, если учитывать, что в булгаковском романе речь идет о разрушении двухтысячелетнего мифа и в связи с этим – о необходимости для человека по-новому строить свои взаимоотношения с миром.
Показав в взаимодействие Универсума с человеческим духом, Булгаков завершает книгу образом ученого, пребывающего в ситуации внутренней борьбы сознательного и подсознательного – «ложной» гармонии (наличная реальность) и «истинной» дисгармонии (интуитивно ощущаемая бесконечность). В мучительный период весеннего полнолуния, скитаясь под ночным небом и вновь впадая в состоянии «бездомности», профессор Понырев старается вспомнить нечто забытое, как бы преодолеть пространственно-временную замкнутость окружающего мира. Из Эпилога следует, что приступы безумия оказывают на Ивана Николаевича одновременно разрушающее и стимулирующее воздействие, являясь, так сказать, залогом духовной жизни. В финальных эпизодах романа отражен вечный путь человечества в познании истины – путь, сочетающий память и мечту.
Сознание неостановимости времени лежит в основе того оптимистического взгляда на мир, который столь импонирует в романе Булгакова. «…Не бывает так, чтобы все стало, как было», – говорит Мастер. В его устах эти слова звучат ностальгически, но в целом идущее время – благо. Это особенно понятно, если вспомнить об обстоятельствах личной судьбы писателя и надеждах на будущее, в котором, как он понимал, его самого не будет. Роман пронизан пафосом безостановочного движения и бесконечного постижения бесконечности. В связи с этим отметим, что эпиграф из «Фауста» Гете, частью которого мы озаглавили данную статью, традиционно толкуемый в связи с образом Воланда, должен быть отнесен прежде всего к булгаковскому человеку. Разумеется, Воланд существует в мире как его «материальная основа»; но лишь людям свойственны представления о добре и зле. «Сила, что вечно хочет зла и вечно совершает благо», – это человечество, идущее своей трудной дорогой. Эта «сила» сочетает разные, в том числе взаимно противоположные тенденции, и ее «частью» в принципе может быть назван любой человек. Мир сам по себе ни хорош, ни плох – равно как и человеческая «природа». Лишь вера, любовь и творчество делают мир лучше. Лишь терпение и мужество приносят в романе «Мастер и Маргарита» бессмертие тем, «кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз».
Впервые: Русская литература. 1988. № 2.
Публикуется в сокращенном и переработанном виде.