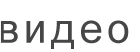Пятидесятилетие Николая Заболоцкого широкая общественность, как известно, не отмечала (собрались лишь несколько человек в Доме литераторов1): для поэта, не так давно прошедшего лагерь и ссылку, официальные торжества были бы «не по чину». Кроме того, в дни, когда Заболоцкому исполнилось пятьдесят, минуло всего два месяца со дня смерти Отца народов. Страна не опомнилась от замешательства; юбилей поэта пришелся на момент безвременья – одна эпоха только еще готовилась сменить другую.
В жизни же самого Заболоцкого к этому моменту «безвременье» как раз окончилось: после почти трехлетнего перерыва он вновь обратился к оригинальному творчеству. Считается, что долгое молчание было связано с неблагоприятной общественно-политической обстановкой в стране2, но такое объяснение кажется все-таки недостаточным – ибо в этом случае остается непонятным, почему возвращение в поэзию совершилось не после, а чуть ли не за год до смерти Сталина. Если «табу» на стихотворчество и было обусловлено внешними факторами, то его «преждевременное» снятие, видимо, совершилось под влиянием накопившегося внутреннего напряжения: Заболоцкий все острее ощущал, что его подсознательное (или сознательное) стремление «вытеснить» творчество из собственной жизни, исчерпав энергию в каторжной переводческой работе, – состояние отнюдь не бесконфликтное и порождено глубокими внутренними проблемами. Показательно, что когда в 1952 г. «количество перешло в качество» и заглушавшиеся до времени стихи прорвались наружу, они оказались сугубо психологичными: основное их содержание – самоанализ, свидетельствующий о желании разобраться в себе и по возможности восстановить душевное равновесие. Не исключено, что одним из побудительных мотивов к «гармонизации» личности послужил именно приближавшийся юбилей.
Заболоцкий отметил его по-своему. Незадолго до или вскоре после дня рождения он написал соответствующее стихотворение – внешне, впрочем, не слишком похожее на «юбилейное», да и с заглавием не очень праздничным: «Сон»3.
- Жилец земли, пятидесяти лет,
Подобно всем счастливый и несчастный,
Однажды я покинул этот свет
И очутился в местности безгласной.
Там человек едва существовал
Последними остатками привычек,
Но ничего уж больше не желал
И не носил ни прозвищ он, ни кличек.
Участник удивительной игры,
Не вглядываясь в скученные лица,
Я там ложился в дымные костры
И поднимался, чтобы вновь ложиться.
Я уплывал, я царствовал вдали,
Безвольный, равнодушный, молчаливый,
И тонкий свет исчезнувшей земли
Отталкивал рукой неторопливой.
Какой-то отголосок бытия
Еще имел я для существованья,
Но уж стремилась вся душа моя
Стать не душой, но частью мирозданья.
Там по пространству двигались ко мне
Сплетения каких-то матерьялов,
Мосты в необозримой вышине
Висели над ущельями провалов.
Я хорошо запомнил внешний вид
Всех этих тел, плывущих из пространства:
Сплетенье ферм, и выпуклости плит,
И дикость первобытного убранства.
Там тонкостей не видно и следа,
Искусство форм там явно не в почете,
И не заметно тягостей труда,
Хотя весь мир в движенье и работе.
И в поведенье тамошних властей
Не видел я малейшего насилья,
И там, лишенный воли и страстей,
Все то, что нужно, делал без усилья.
Мне не было причины не хотеть,
Как не было желания стремиться,
И был готов я царствовать и впредь,
Коль то могло на что-то пригодиться.
Со мной бродил какой-то мальчуган,
Болтал со мной о массе пустяковин.
И даже он, похожий на туман,
Был больше материален, чем духовен.
Мы с мальчиком на озеро пошли,
Он удочку куда-то вниз закинул
И нечто, долетевшее с земли,
Не торопясь, рукою отодвинул (250–251).
Тема «юбилея» ощутима уже в первой строчке: «Жилец земли, пятидесяти лет…» (здесь и далее курсив в цитатах – мой). Вместе с тем ясно, что в сне, привидевшемся «посредине жизни», герою Заболоцкого открывается картина его собственного успения: онирический мир предстает как мир загробный («Однажды я покинул этот свет»). Сон и смерть традиционно воспринимаются как похожие состояния, так что поэтические «сновидения» о пребывании на грани бытия и небытия довольно многочисленны – вспомним хотя бы Лермонтова, за сто с лишним лет до Заболоцкого написавшего стихотворение с таким же названием и отчасти сходное по изображаемой ситуации. Вместе с тем, мотивы «середины жизни» и «потустороннего» путешествия вызывают в памяти начало дантовской «Божественной Комедии»:
- Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины,
Каков он был, о, как произнесу,
Тот дикий лес, дремучий и грозящий.
Чей давний ужас в памяти несу!
Так горек он, что смерть едва ль не слаще,
Но, благо в нем обретши навсегда,
Скажу про все, что видел в этой чаще4.
Однако, как можно предположить, образ «запредельного» бытия у Заболоцкого обусловлен не только литературными ассоциациями, но и вполне реальными обстоятельствами. Своим «первобытным убранством» онирическая действительность напоминает «Картины Дальнего Востока», нарисованные поэтом в одном из писем 1944 г.: «Природа еще девственна здесь, и хлябь еще не отделилась от суши вполне, как это бывает в местности, освоенной человеком»5. Автор письма осознаёт свое пребывание в этом «несотворенном» мире как «инициационное путешествие»6 – данное определение, в общем, применимо и к стихотворению «Сон».
Сочетание дантовских образов с метафорически видоизмененными лагерными сюжетами наблюдается уже в творчестве Заболоцкого середины 1940-х годов. Например, стихотворение 1947 г. «Творцы дорог» вполне соответствует идее социалистического преображения действительности – однако его «титанические» герои (опознать в которых заключенных довольно затруднительно7) не просто вторгаются в инфернальные сферы, но как бы «выводят» ад на поверхность земли, используя его «обломки» в качестве строительного материала для «нового мира»:
- Поет рожок над дальнею горою,
Восходит солнце, заливая лес,
И мы бежим нестройною толпою,
Подняв ломы, громам наперерез.
Так под напором сказочных гигантов,
Работающих тысячами рук,
Из недр вселенной ад поднялся Дантов
И, грохнув наземь, раскололся вдруг (220).
В известном смысле, сами персонажи отождествляются с «адскими» силами: в суровом краю зимы они воплощают «огненную», буквально взрывчатую (а метафорически – солнечную, весеннюю) энергию:
- Угрюмый Север хмурился ревниво,
Но с каждым днем все жарче и быстрей
Навстречу льдам Берингова пролива
Неслась струя тропических морей.
Под непрерывный грохот аммонала,
Весенними лучами озарен,
Уже летел, раскинув опахала,
Огромный, как ракета, махаон (221).
Внося «цивилизаторское» начало в хаос, они как бы довершают процесс «творения»:
- Здесь, в первобытном капище природы,
В необозримом вареве болот,
Врубаясь в лес, проваливаясь в воды,
Срываясь с круч, мы двигались вперед.
Нас ветер бил с Амура и Амгуни,
Трубил нам лось, и волк нам выл вослед,
Но все, что здесь до нас лежало втуне,
Мы подняли и вынесли на свет (222).
При всей торжественности пафоса и внешней богоподобности «творцов дорог», побеждающих непроходимые болота, эти герои могут быть также сопоставлены с лемурами-землекопами из заключительного акта «Фауста»8 Гете9. Характерно, что официозные критики высказались о «Творцах дорог» негативно: возможно, они уловили в нарисованной Заболоцким утопии некий опасный подтекст – при том, что формально автора было не в чем обвинить, кроме разве что «эстетических» грехов, таких как холодность, риторичность, литературность10.
Реальность, в которой оказывается герой «Сна», сочетает в себе качества «верхнего» и «нижнего» миров; обитатели «сонного царства» не только бестелесны, но и «бездушны» – они соответствуют как «изначально-хаотичному» состоянию мира, так и утопическому «послебытию» в вечности11. В онирическом пейзаже смешаны образы прошлого и будущего: «дикость первобытного убранства» соседствует с «мостами в необозримой вышине». Сравним дальневосточный пейзаж, изображаемый Заболоцким как бы с двух временных точек: «Когда-нибудь, проезжая к берегам Охотского моря и наблюдая природу из окна вагона, путешественник будет изумлен величественным зрелищем, которое откроется перед его глазами. С вершин сопок он увидит вздыбленное каменное море, как бы застывшее в момент крайнего напряжения бури. Каменное море, поросшее лесом, изрезанное горными речками, то мелководными, то бурными и широкими в период таяния снегов. <…> Но это будет потом. Сейчас здесь суровый, нелегкий человеческий труд»12.
В «утопических» деталях «Сна» отражаются не только лагерные впечатления, но и пейзажи, виденные в казахстанской ссылке и зафиксированные, например, в стихотворении 1947 г. «Город в степи»:
- Куда ни глянь, от края и до края
На пьедесталах каменных пород
Стальные краны, в воздухе ныряя,
Свой медленный свершают оборот. <…>
Кто выстроил пролеты колоннад,
Кто вылепил гирлянды на фронтонах,
Кто средь степей разбил испепеленных
Фонтанами взрывающийся сад? (216)
Сходны картины светлого будущего в стихотворении «Начало стройки»:
- Я вижу бесконечные фронтоны
Просторных улиц, ровных, как стрела,
Сады, заводы, парки, стадионы,
Верхи дворцов, театров купола.
Все движется, все блещет, все бушует,
Прожектора лучи косые льют,
И, управляя миром, торжествует
Свободный, стройный, вдохновенный труд (419).
Образ «другого» мира в «Сне» оказывается столь же величественным – но абсолютно остраненным. Автор настойчиво (и блестяще) моделирует бесстрастно-«потустороннюю» точку зрения лирического героя, «гостящего» в онирическом мире: именуя себя «безвольным, равнодушным, молчаливым», «лишенным воли и страстей», тот как бы полностью отрицает свою индивидуальность («Мне не было причины не хотеть, / Как не было желания стремиться»). Общая модальность речи героя и отобранные им детали создают образ бытия скорее бездуховного, нежели «бестелесного». Наблюдаемый мир пребывает «в движенье и работе»; в нем фиксируются «строительные» реалии («сплетенье ферм и выпуклости плит»); в нем хватает разного рода «фактуры» – от величественных мостов до обычной удочки. Недостает лишь внутренних качеств.
Континуум, в котором пребывает герой Заболоцкого, – «безгласная местность»: во-первых, это сфера беззвучия (в традиционных культурах молчание – атрибут мира «нижнего», инфернального); во-вторых – обитель существ «безгласных», т. е. бесправных и униженных. Такая деталь как «скученные лица» усиливает образ безликой толпы «близнецов» (закономерна и ассоциация со словом «скучные») на фоне «первобытном» и утопическом. Сходная «расстановка сил» (но, разумеется, в торжественном «изводе») присутствует в «Начале стройки»:
- Сквозь дикий мир нетронутой природы
Мне чудятся над толпами людей
Грядущих зданий мраморные своды
И колоннады новых площадей (419).
Не случайно даже о появляющемся в финале «Сна» ребенке говорится, что он, хотя и «похож на туман», все же «больше материален, чем духовен». Примерно то же самое мы вправе заключить о лирическом герое, поясняющем, что душа его стремится «стать не душой, но частью мирозданья» – т. е. хотела бы отказаться от своей сущности. Фраза «я покинул этот свет» тоже усиливает инфернальные ассоциации: подразумевается не только уход из «посюстороннего» мира, но в буквальном смысле отказ от света (который, как известно, символизирует божественное начало). Затем это впечатление усиливается – герой уточняет: «Я <…> тонкий свет исчезнувшей земли / Отталкивал рукой неторопливой». Почти такой же жест повторит и мальчик: «…нечто, долетевшее с земли, / Не торопясь, рукою отодвинул». Отмечая, что далекий мир, куда попадает герой стихотворения, расположен где-то бесконечно высоко, а земля находится далеко внизу, Ю. Лотман писал: «Эта вертикальная ось одновременно организует и этическое пространство: зло у Заболоцкого неизменно расположено внизу»13. Однако дело обстоит иначе: именно «снизу» долетает свет, от которого обитатели (или «посетители») онирического мира вполне осознанно отказываются.
Неудивительно, что при описании этого мира какие-либо источники света не упоминаются (излучающая свет «земля» пребывает в иной реальности). Исключение, кажется, составляет слово костры – однако ему сопутствует отнюдь не «огненный» эпитет дымные: это, так сказать, «дым без огня». Составной частью колышущегося вверх-вниз дыма представляет себя и герой (который «не горяч и не холоден» [Откр. 3:16]): «Я там ложился в дымные костры / И поднимался, чтобы вновь ложиться». Возникающий в финале «туманный» мальчик – это, конечно, «двойник» героя, сходного с дымом (наличие разновозрастных «двойников» подтверждает тезис об «инициационном» подтексте «Сна»). Отправляясь вдвоем ловить рыбу, они как бы уподобляются пародийным апостолам – «ловцам человеков»; однако ничто земное (= человеческое) их не интересует, так что беззаботный покой в безмолвном и «неодухотворенном» мире вряд ли может быть отождествлен с райским блаженством: если это и нирвана, то вполне «безблагодатная».
Несколькими годами ранее, в стихотворении 1947 г. «Завещание» лирический герой Заболоцкого уже рассуждал о предстоящем ему «необозримом мире туманных превращений» (223), однако проблема смерти оказывалась здесь фактически снята пантеистическим отношением к бытию: фраза «Я не умру, мой друг» (223) заставляет вспомнить не столько о пушкинском «Памятнике», сколько о «космическом» мироощущении героев Л. Толстого14. По словам Н. Н. Заболоцкого, натурфилософские представления поэта «в известной степени защищали его от страха личного уничтожения. Идею бессмертия он развивал, исходя из ощущения целостности всего организма природы и постоянных метаморфоз, которым подвергается материя этого организма. Он считал, что человек – орган мышления природы, следовательно – ее часть. И пока существует природа, он как один из ее органов бессмертен»15.
Но, в отличие от стихотворений 1930–1940-х годов (от «Метаморфоз» до «Завещания»), герой которых был готов по-каратаевски бестрепетно «вернуться» в космическое всеединство, в стихах начала 1950-х годов Заболоцкий мыслит своего героя прежде всего как неповторимую «монаду» бытия: его волнует судьба личности как таковой. И если раньше в рассуждениях о смерти на первом плане оказывалась коллизия потери тела, то теперь поэт все более драматично размышляет о потере души16. Вероятно, таково было следствие испытаний, которые переживались уже после лагеря и ссылки – в «позднесталинские» годы. Заболоцкий вполне отдает себе отчет в том, что всенародный страх затронул и его собственное мироощущение, – недаром именно в начале 1950-х годов выписывает из романа А. Герцена «Былое и думы» весьма характерный фрагмент: «Несчастье – самая плохая школа! Конечно, человек, много испытавший, выносливее, но ведь это от того, что душа его помята, ослаблена. Человек изнашивается и становится трусливее от перенесенного. Он теряет ту уверенность в завтрашнем дне, без которой ничего делать нельзя; он становится равнодушнее потому, что свыкается со страшными мыслями, наконец, он боится несчастий эгоистически, то есть боится снова перечувствовать ряд щемящих страданий, ряд замираний сердца, память о которых не разносится с тучами»17.
Показательно, что практически во всех первых стихотворениях Заболоцкого «послекризисного» времени звучит тема «раскола» личности, душевного распада, утерянной экзистенциальной сущности. Например, считается, что прототипом героя стихов «Облетают последние маки…» (1952 г.) явился Н. Степанов, под давлением обстоятельств переродившийся из талантливого литературоведа в сверхосторожного конъюнктурщика18. Однако контекст творчества Заболоцкого показывает, что вопросы, задаваемые герою этого стихотворения во втором лице, автор фактически адресовал самому себе19:
- …Ну, а что же с тобой приключилось,
Что с душой приключилось твоей?
Как посмел ты красавицу эту,
Драгоценную душу твою,
Отпустить, чтоб скиталась по свету,
Чтоб погибла в далеком краю? (247)
«Далекий край»20 – отнюдь не условный поэтический образ, а аллюзия на биографию автора стихотворения. Заболоцкий здесь не просто отвлеченно морализирует по поводу «измены себе самому», но ощущает эту опасность в собственной душе, упрекая в слабости не столько приятеля, сколько себя.
В контексте темы «потери души» весьма показательно и стихотворение 1952 г. «Воспоминание». Здесь мир жизни и мир смерти хотя и разделены «пространственно», однако, по сути, неразрывно связаны – разница между ними едва ли не иллюзорна:
- Наступили месяцы дремоты…
То ли жизнь действительно прошла,
То ль она, закончив все заботы,
Поздней гостьей села у стола.
Хочет пить – не нравятся ей вина,
Хочет есть – кусок не лезет в рот.
Слушает, как шепчется рябина,
Как щегол за окнами поет.
Он поет о той стране далекой,
Где едва заметен сквозь пургу
Бугорок могилы одинокой
В белом кристаллическом снегу.
Там в ответ не шепчется береза,
Корневищем вправленная в лед.
Там над нею в обруче мороза
Месяц окровавленный плывет (248).
Несмотря на то, что Заболоцкий весьма сдержанно (если не скептически) отзывался о поэзии Лермонтова21, данное стихотворение выглядит как прямая реминисценция и вполне может быть соотнесено с лермонтовской переводной миниатюрой «На севере диком…»: в обоих случаях контрастно противопоставлены мир действительный и мир мыслимый, «теплое» и «холодное», дерево «живое» и дерево «мертвое». Строка «Он поет о той стране далекой…» вызывает ассоциации с другим стихотворением Лермонтова – «Парус»; ср.: «Что ищет он в стране далекой?»
В художественном мире стихотворения Заболоцкого выстраивается ряд оппозиций:
«юг» (место осеннего22 отдыха и домашнего уюта) – «север» (сторона бесприютной зимы);
звук (шепот рябины, песня щегла) – молчание («не шепчущаяся» береза);
жизнь (застолье) – смерть (могила)23;
красный цвет (= мелкие шарообразные объекты: ягоды рябины) – белый цвет (= мелкие угловатые объекты: «кристаллический снег»);
многие «месяцы дремоты» – один «месяц окровавленный» (плывущий над могилой и, видимо, сам мертвый).
Однако, в отличие от «тотального» романтического контраста, свойственного художественной реальности у Лермонтова, между двумя мирами в «Воспоминании» имеется и нечто общее. Образ красного цвета не принадлежит здесь исключительно «первой» реальности: в «царстве холода» присутствует такая деталь как «окровавленный месяц». Образ плывущего месяца композиционно, ритмически и фонетически «соответствует» образу поющего щегла – ср. финалы первой и второй половин текста: «Как щегол за окнами поет» – «Месяц окровавленный плывет». К тому же щегол и месяц оказываются сходны по колориту: пестрый с элементом красного24 цвет птицы – и «окровавленное» (т. е. как бы частично, не полностью кровавое) светило. Два эти сходных «персонажа», так сказать, изофункциональны – и именно через них осуществляется соединение двух хронотопов.
В лермонтовском стихотворении сосна видит сон – поэтому открывающееся ей зрелище пальмы находится в неопределенном соотношении с реальностью (неизвестно, существует пальма на самом деле или является лишь плодом фантазии). У Заболоцкого же само заглавие – «Воспоминание» – указывает на то, что в песне щегла «изображен» некий действительный пейзаж, который «гостья»-жизнь видела (и как бы продолжает видеть) наяву. Ясно, что персонифицированная жизнь метонимически замещает лирического героя (ср. «пропущенные» слова в первом и втором стихах: «[Для меня] Наступили месяцы дремоты… / То ли [моя] жизнь действительно прошла…» Поэтому можно сказать, что герой, долгое время пребывая в оцепенении, фактически зрит свою собственную могилу, мыслит себя мертвым, причем не в прошлом, а словно бы в настоящем; получается, что он в одно и то же время жив и мертв – находится в некоем «третьем» состоянии.
Анализ стихотворений Заболоцкого начала 1950-х годов позволяет достаточно ясно представить круг размышлений поэта. Его лирического героя в это время преследует образ «остановившегося» времени, томит ощущение потери личности, мучает страх молчания. Впрочем, не стоит забывать, что в данном случае перед нами не дневниковые записи или письма, а художественные произведения: внутреннее состояние автора стихов, сколь бы тягостным оно ни казалось читателю, воплощено не в непосредственном, а в «снятом» виде – не столько как актуальное, сколько как отрефлектированное и эстетически «остраненное». К этому моменту поэзия одержала верх: целебная сила гармонии помогла поэту на время преодолеть «потусторонний» зов, вступив в очередной (оказавшийся последним) период жизни и творчества.
«Странная» поэзия и «странная» проза:
Филологический сборник, посвященный 100-летию
со дня рождения Н. А. Заболоцкого. М., 2003.
![]()
1![]() См.: Воспоминания о Н. Заболоцком. 2-е изд. М., 1984. С. 384; Заболоцкий Н. Н. Жизнь Н. А. Заболоцкого. М., 2003. С. 528.
См.: Воспоминания о Н. Заболоцком. 2-е изд. М., 1984. С. 384; Заболоцкий Н. Н. Жизнь Н. А. Заболоцкого. М., 2003. С. 528.
2![]() См.: Заболоцкий Н. А. «Огонь, мерцающий в сосуде…»: Стихотворения и поэмы. Переводы. Письма и статьи. Жизнеописание. Воспоминания современников. Анализ творчества. М., 1995. С. 603; Заболоцкий Н. Н. Указ. соч. С. 472–473.
См.: Заболоцкий Н. А. «Огонь, мерцающий в сосуде…»: Стихотворения и поэмы. Переводы. Письма и статьи. Жизнеописание. Воспоминания современников. Анализ творчества. М., 1995. С. 603; Заболоцкий Н. Н. Указ. соч. С. 472–473.
3![]() Автор утверждал, что такой сон ему действительно приснился и он всего лишь «записал» увиденное (Заболоцкий Н. А. Собр. соч.: В 3 т. М., 1983. Т. 1. С. 625; далее цитаты по этому изданию – в тексте, с указанием страницы).
Автор утверждал, что такой сон ему действительно приснился и он всего лишь «записал» увиденное (Заболоцкий Н. А. Собр. соч.: В 3 т. М., 1983. Т. 1. С. 625; далее цитаты по этому изданию – в тексте, с указанием страницы).
4![]() Данте Алигьери. Божественная комедия. М., 1992. С. 7.
Данте Алигьери. Божественная комедия. М., 1992. С. 7.
5![]() Заболоцкий Н. А. «Огонь, мерцающий в сосуде…». С. 400.
Заболоцкий Н. А. «Огонь, мерцающий в сосуде…». С. 400.
6![]() Лощилов И. Е. Феномен Николая Заболоцкого. Helsinki, 1997. С. 52.
Лощилов И. Е. Феномен Николая Заболоцкого. Helsinki, 1997. С. 52.
7![]() Как писал позже В. Каверин, в этом стихотворении Заболоцкого «труд поднят на необозримую высоту, исключающую подневольность. Мысль о том, что это рабский труд, даже не возникает в сознании» (Каверин В. А. Эпилог: Мемуары. М., 1997. С. 320).
Как писал позже В. Каверин, в этом стихотворении Заболоцкого «труд поднят на необозримую высоту, исключающую подневольность. Мысль о том, что это рабский труд, даже не возникает в сознании» (Каверин В. А. Эпилог: Мемуары. М., 1997. С. 320).
8![]() Ср. мечтания Фауста о преобразовании болотистого края:
Ср. мечтания Фауста о преобразовании болотистого края:
- До гор болото, воздух заражая,
Стоит, весь труд испортить угрожая;
Прочь отвести гнилой воды застой –
Вот высший и последний подвиг мой!
Я целый край создам обширный, новый,
И пусть мильоны здесь людей живут,
Всю жизнь, в виду опасности суровой,
Надеясь лишь на свой свободный труд.
(Гете И. В. Фауст / Пер. Н. Холодковского. М., 1954. С. 342)
9![]() Обратим внимание на соположение имен «Гете и Данта» в стихотворении Заболоцкого 1948 г. «Жена» (225).
Обратим внимание на соположение имен «Гете и Данта» в стихотворении Заболоцкого 1948 г. «Жена» (225).
10![]() См.: Заболоцкий Н. А. «Огонь, мерцающий в сосуде…». С. 469.
См.: Заболоцкий Н. А. «Огонь, мерцающий в сосуде…». С. 469.
11![]() Внешне фантастический и «возвышенный» колорит «Сна» вызывает в памяти инфернально-«потустороннюю» атмосферу рассказов В. Шаламова.
Внешне фантастический и «возвышенный» колорит «Сна» вызывает в памяти инфернально-«потустороннюю» атмосферу рассказов В. Шаламова.
12![]() Заболоцкий Н. А. «Огонь, мерцающий в сосуде…». С. 401.
Заболоцкий Н. А. «Огонь, мерцающий в сосуде…». С. 401.
13![]() Лотман М. Ю. Н. А. Заболоцкий. Прохожий // Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. Л., 1972. С. 257.
Лотман М. Ю. Н. А. Заболоцкий. Прохожий // Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. Л., 1972. С. 257.
14![]() Кстати, в художественном сознании Заболоцкого, по-видимому, присутствовала ассоциативная связь между «Войной и миром» и пребыванием в лагере – ибо роман Толстого был одной из немногих «серьезных» книг, которые поэт читал в заключении. Ср. строки из его письма к жене от 25 июня 1940 г.: «Недавно удалось прочитать “Войну и мир” Толстого. Эта книга доставила мне столько счастливых минут <…> Как я люблю Толстого! Какой он умный наблюдатель жизни и какой большой художник!» (Заболоцкий Н. А. «Огонь, мерцающий в сосуде…». С. 420). В 1950-х годах Заболоцкий создаст две «вариации» на темы «Войны и мира», предпослав стихотворениям «Встреча» (286) и «Две встречи» (430) эпиграфы из этого романа. Думается, что и стихотворение «Сон» может быть в каком-то смысле сопоставлено с «Войной и миром» – прежде всего с эпизодом «смертного сна» Андрея Болконского.
Кстати, в художественном сознании Заболоцкого, по-видимому, присутствовала ассоциативная связь между «Войной и миром» и пребыванием в лагере – ибо роман Толстого был одной из немногих «серьезных» книг, которые поэт читал в заключении. Ср. строки из его письма к жене от 25 июня 1940 г.: «Недавно удалось прочитать “Войну и мир” Толстого. Эта книга доставила мне столько счастливых минут <…> Как я люблю Толстого! Какой он умный наблюдатель жизни и какой большой художник!» (Заболоцкий Н. А. «Огонь, мерцающий в сосуде…». С. 420). В 1950-х годах Заболоцкий создаст две «вариации» на темы «Войны и мира», предпослав стихотворениям «Встреча» (286) и «Две встречи» (430) эпиграфы из этого романа. Думается, что и стихотворение «Сон» может быть в каком-то смысле сопоставлено с «Войной и миром» – прежде всего с эпизодом «смертного сна» Андрея Болконского.
15![]() Воспоминания о Н. Заболоцком. С. 271.
Воспоминания о Н. Заболоцком. С. 271.
16![]() Впрочем, состояние бескомпромиссного «разрыва» между телом и душой изображено уже в стихотворении 1948 г. «Прохожий»: материальная «оболочка» человека вынуждена действовать и двигаться («А тело бредет по дороге» [229]) как бы по отдельности и против желания души, которая уже обрела себе идиллический приют на кладбище среди сосен (именуемых «скопищем душ» [228]) и хочет проводить вечность в беседе с ангелоподобным «невидимым юношей-летчиком» (229).
Впрочем, состояние бескомпромиссного «разрыва» между телом и душой изображено уже в стихотворении 1948 г. «Прохожий»: материальная «оболочка» человека вынуждена действовать и двигаться («А тело бредет по дороге» [229]) как бы по отдельности и против желания души, которая уже обрела себе идиллический приют на кладбище среди сосен (именуемых «скопищем душ» [228]) и хочет проводить вечность в беседе с ангелоподобным «невидимым юношей-летчиком» (229).
17![]() Цит. по: Заболоцкий Н. А. «Огонь, мерцающий в сосуде…». С. 476.
Цит. по: Заболоцкий Н. А. «Огонь, мерцающий в сосуде…». С. 476.
18![]() Заболоцкий Н. А. «Огонь, мерцающий в сосуде…». С. 611; Заболоцкий Н. Н. Указ. соч. С. 517–518.
Заболоцкий Н. А. «Огонь, мерцающий в сосуде…». С. 611; Заболоцкий Н. Н. Указ. соч. С. 517–518.
19![]() Такое же впечатление вызывало у С. Ермолинского стихотворение Заболоцкого 1948 г. «Жена» (см.: Воспоминания о Н. Заболоцком. С. 342; Заболоцкий Н. Н. Указ. соч. С. 469). Вероятно, нечто подобное можно сказать и о стихотворении 1953 г. «Неудачник» (259).
Такое же впечатление вызывало у С. Ермолинского стихотворение Заболоцкого 1948 г. «Жена» (см.: Воспоминания о Н. Заболоцком. С. 342; Заболоцкий Н. Н. Указ. соч. С. 469). Вероятно, нечто подобное можно сказать и о стихотворении 1953 г. «Неудачник» (259).
20![]() Примерно через полтора года тот же оборот (с теми же коннотациями) возникнет в стихотворении «В кино»:
Примерно через полтора года тот же оборот (с теми же коннотациями) возникнет в стихотворении «В кино»:
- Почему его нету с тобою?
Неужели погиб он в бою
Иль, оторван от дома судьбою,
Пропадает в далеком краю? (267)
21![]() См.: Воспоминания о Н. Заболоцком. С. 394.
См.: Воспоминания о Н. Заболоцком. С. 394.
22![]() Об осени как поре итогов напоминают мотивы «прошедшей жизни» и «законченных работ».
Об осени как поре итогов напоминают мотивы «прошедшей жизни» и «законченных работ».
23![]() Ср. хрестоматийное противопоставление: «стол яств» – «гроб».
Ср. хрестоматийное противопоставление: «стол яств» – «гроб».
24![]() Например, в Словаре Даля приведено слово щеглóва – «красненькая головка» (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. [В 4 т.] М.,1980. Т. 4. С. 652). Ср. у О. Мандельштама: «…перья черно-желты, / Ниже клюва красным шит» (в более ранних вариантах – «И нагрудник красным шит»; «И под клювом красным шит»); «Что за воздух у него в надлобье – / Черн и красен, желт и бел!» (Мандельштам О. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 223, 549–550). Примечательно, что в черновиках этих стихотворений щегол, как позже у Заболоцкого, ассоциируется с окровавленным снегом: «Я и сам бы выпрыгнул из сдобы / Тела кожи и костей / Чтоб увидеть красные сугробы»; «Красен снег, легко стоял в сугробе» (Там же. С. 549). Не исключено, что именно Мандельштама имел в виду Заболоцкий, когда в 1948 г. в стихотворении «Читая стихи» писал о некоем мастеровитом поэте, превратившем русское слово в лишенное смысла «щебетанье щегла» (230).
Например, в Словаре Даля приведено слово щеглóва – «красненькая головка» (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. [В 4 т.] М.,1980. Т. 4. С. 652). Ср. у О. Мандельштама: «…перья черно-желты, / Ниже клюва красным шит» (в более ранних вариантах – «И нагрудник красным шит»; «И под клювом красным шит»); «Что за воздух у него в надлобье – / Черн и красен, желт и бел!» (Мандельштам О. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 223, 549–550). Примечательно, что в черновиках этих стихотворений щегол, как позже у Заболоцкого, ассоциируется с окровавленным снегом: «Я и сам бы выпрыгнул из сдобы / Тела кожи и костей / Чтоб увидеть красные сугробы»; «Красен снег, легко стоял в сугробе» (Там же. С. 549). Не исключено, что именно Мандельштама имел в виду Заболоцкий, когда в 1948 г. в стихотворении «Читая стихи» писал о некоем мастеровитом поэте, превратившем русское слово в лишенное смысла «щебетанье щегла» (230).