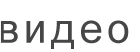Подобно многим ранним произведениям Газданова, художественный мир рассказа «Товарищ Брак» организован вокруг центрального женского образа – это явствует уже из заглавия. И, как в других газдановских произведениях, образ главной героини здесь амбивалентен и не может считаться однозначно «идеальным». В суждениях героя-рассказчика (далее – ГР), говорящего не только от собственного имени, но как бы от всей «троицы», в которую входит, Татьяна Брак предстает в основном в позитивном свете; однако, как мы постараемся показать, авторская оценка оказывается значительно более сложной. Соответственно, дополнительную глубину получают и образы остальных персонажей, в том числе самого ГР. Вполне очевидно, что отнюдь не все ситуации и детали рассказа могут быть объяснены в логике «бытовых» причинно-следственных связей; персонажи активно включены в подтекстно-символические коллизии, и этот второй сюжетный план играет едва ли более важную роль, чем первый.
Вначале обратимся к семантике фамилии героини, входящей и в заглавие произведения. В самом рассказе она акцентирована и осмыслена как «символическая»; Лазарь Рашевский говорит: «У вас роковая фамилия. И кроме того, товарищ Брак звучит как парадокс» (731). Что касается «парадоксальности» сочетания – имеется в виду, вероятно, оксюморонность одновременно «товарищеских» и «брачных» отношений. Возможно, определенную роль играет фонетическое сходство слов «брак» и «враг» – при такой «подмене» алогичность словосочетания становится вопиющей и амбивалентность образа героини достигает предела. С другой стороны, внешне вполне ординарная еврейская фамилия как бы подчеркивает, что ее носительница выступает как объект (или субъект?) матримониальных намерений – хотя, заметим, ни один из героев рассказа не стремится и не помышляет взять ее в жены2. По-французски braque – «легкомысленный, ветреный»3; в рассказе, во-первых, явно важен образ непогоды, ветра, подчеркнута связь героини с «метельной» стихией (см. ниже); во-вторых, и впрямь актуален мотив ее ветрености и «внеморальности».
Возвращаясь к словам Рашевского о «роковой» природе фамилии, вспомним, что одно из значений слова брак – «дефект, порок»; в этом свете заглавие может быть прочитано как «бракованная Татьяна», что особенно существенно в аспекте пушкинских реминисценций (тем более что рассказу предпослан эпиграф из «Элегии»). Вероятно, Татьяна Брак тоже ассоциируется для Газданова с героиней Пушкина – по крайней мере, их объединяют глубинная «непостижимость» и явно центральное положение в системах персонажей4. Намек на пушкинский контекст звучит уже в первых словах рассказа: «Мне всегда казалось несомненным, что Татьяне Брак следовало родиться значительно раньше нашего времени и в иной исторической обстановке. Она провела бы свою жизнь на мягких кроватях девятнадцатого века» (64). Позже возникает и другой эпизод, прочитывающийся как реминисценция из пушкинского романа: «Мать ее плакала от радости, целовала Татьяну без конца и упрекала: / – Ты меня пожалей, Танечка, ведь я же по тебе плакать буду. Ну, для чего мне жить, если тебя не станет? / – Не могу, мама, – сказала Таня, – нужно так, ничего не поделаешь» (76). Ср. слова героини «Евгения Онегина»: «Меня с слезами заклинаний / Молила мать», – с той разницей, что если для пушкинской Татьяны «все были жребии равны», то для своевольной героини Газданова, как кажется, характерен активный и осознанный выбор; впрочем, если вдуматься, ее фраза может быть понята и как выражение пассивно-фаталистической позиции, т. е. вполне в «пушкинском» духе.
Итак, уже семантика центрального антропонима показывает, что образ героини возникает на пересечении множества разнородных смыслов. Как нам представляется, допустимо говорить о «тройственном» образе Татьяны Брак, составные части которого пребывают в сложных отношениях, словно противореча друг другу. Условно эти элементы образа можно обозначить как: 1) акциональный (выстраивающийся из практических «манифестаций» героини, ее поступков – смысл которых необходимо отделять от оценок повествующего о них ГР); 2) ментальный (идеальный, «вневременной» образ, который существует в представлении героев и практически не зависит от собственных поступков Татьяны Брак; 3) объективный – образ, адекватный авторской точке зрения и не вполне совпадающий с высказываемыми в рассказе оценками, чьи бы они ни были.
Можно заметить, что, несмотря на явное стремление ГР и его друзей «идеализировать» героиню («Судьба втиснула ее в нелепую и жестокую дребедень батальной российской революции, но ее собственный образ остался для меня непогрешимым» [77–78]), она предстает существом вполне дисгармоничным и достаточно порочным («бракованным»); уже «зачинная» характеристика, на первый взгляд кажущаяся «высоко»-романтической, создает образ вовсе не идеальный: «Она участвовала бы во многих интригах, имела бы салон и богатых покровителей – и умерла бы в бедности» (64; здесь и далее курсив в цитатах – мой). Кстати, звучащий тезис об «анахроничности» героини и ее якобы «чужеродности» эпохе начала XX в. в дальнейшем опровергается всем ходом событий – ибо в виде атрибутов «идеального» прошлого перечислено как раз то, что реально происходит с героиней в фабуле рассказа. Названы все этапы ее «печальной карьеры» (64): «интриги» (по крайней мере, вокруг нее), в которых принимают участие сами герои; «покровители» (Сергеев и др.); «салон» (герой-рассказчик замечает, что у Татьяны Брак они «часто бывали в гостях» [63]); смерть «в бедности» (несмотря на участие в «экспроприациях» и богатую добычу). Стало быть, настоящее не слишком отличается от прошлого, и «анахроничность» на самом деле проистекает не из принадлежности к иной эпохе, а из «вневременности», связи с вечностью.
Идея «порочности» героини подкрепляется прямыми характеристиками: «Татьяне Брак пошел девятнадцатый год, и ее глаза вдруг приобрели смутную жестокость» (64); «Татьяну Брак корчило от злобы и ожидания» (69). Подобные описания формируют образ скорее ведьмовской, нежели ангельский; но ГР, которому они принадлежат, как бы «не замечает» дискредитирующего смысла своих слов, продолжая высказываться в сугубо положительном духе. Собственно, весь стиль рассказа во многом определяется именно этой коллизией между «непосредственным» читательским впечатлением от героини и тем «изначальным» мнением героев, которое не может быть поколеблено никакими фактами. «Троица» не только не стремится к беспристрастной объективности, но, напротив, склонна «подтягивать» поступки ТБ к своим идеальным представлениям о ней. И хотя их оценки – например: «…это очень честная и глубоко порядочная девушка» (70), – выглядят довольно сомнительными, героев это не смущает.
Более «достоверными» оказываются суждения, которые не касаются (по крайней мере, впрямую) нравственных аспектов. Допустим, генерал связывает образ Татьяны Брак с зимой; «…самым значительным обстоятельством, повлиявшим на Татьяну Брак, он считает чисто атмосферные условия – температуру двадцати градусов ниже нуля, сухую морозную зиму и необыкновенную чистоту ледяного воздуха»5 (71). На первый взгляд не вполне понятно, какую именно роль в судьбе героини сыграла «метеозависимость», – по-видимому, приведенные слова надо понимать в том смысле, что зимняя погода «совпала» с органической, глубинной природой героини и помогла ей проявиться. В подтексте раннего газдановского рассказа выстраивается связь Татьяны Брак с архетипом Снегурочки или Снежной Королевы – в этом отношении она предвосхищает героиню «Вечера у Клэр». Характерно, что «мистическое» воздействие погоды испытывает не только Татьяна Брак – о себе и своих друзьях ГР тоже говорит: «Мы были заворожены зимой» (66). Фактически утверждается, что вся совершившаяся «мистерия» могла быть разыграна лишь на фоне «зимних» декораций.
Анализируя снежные мотивы в рассказе, исследователи отмечают переклички с пушкинскими «Бесами» и «Метелью»; справедливо указывается и на связи Газданова с символизмом – в частности, на соотношение образа Клэр со «Снежной маской» А. Блока6. Следует упомянуть еще один блоковский текст, реминисценции из которого прочитываются как в «Вечере у Клэр», так и в «Татьяне Брак», – это поэма «Двенадцать». Судя по всему, именно отсюда заимствован лейтмотив шествия вереницы фигур сквозь метель: «Татьяна Брак пошла домой. Мы шли за ней по крепкому, хриплому снегу через облака белой ледяной пыли. Ветер с шуршанием осыпал фонари со вздрагивающим пламенем: в длинной галерее печальных белых огней двигалось несколько черных фигур мимо медленно уплывающих многоэтажных каменных льдин» (71).
В «шествии» участвуют персонажи не только пешие, но и конные; ср., например, образ дружины анархистов-террористов, отправившейся на «экспроприацию»: «Дружина <…> состояла из десяти человек, и впереди отряда рядом с Лазарем Рашевским <…> ехала товарищ Брак. Тень черного знамени влачилась по уезженному снегу» (73). Неясно, включены ли Лазарь и Татьяна Брак в число «десяти»; союз «и» вполне может читаться как эквивалент знака «плюс» – в таком случае речь идет именно о двенадцати участниках «дружины». Упоминание «тени черного знамени» (деталь тем более парадоксальная, что действие происходит «глубокой декабрьской ночью» [73]) непосредственно вслед за изображением героини позволяет предположить, что знамя находится в ее руках (либо сама она сравнивается с «черным знаменем», метафорически замещая его). Так или иначе, образ черной фигуры и черного знамени в авангарде «дружины» разбойников (пусть даже «идейных») контрастно воспроизводит финал поэмы «Двенадцать», где перед отрядом полубандитов («На спину б надо бубновый туз») движется белая фигура с «кровавым» флагом. Из того же ряда – исполненная евангельского подтекста сцена, где изображаются красноармейцы, пришедшие «на смену» анархистам: «Это была армия советских святых: мы с генералом любили ее за бездумность, за непонимание многих вещей, за то блаженное неведение и душевную простоту, которые служат контрамарками для входа в гигантские цирки царства небесного». Несомненна реминисценция из Нагорной проповеди: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное» (Мф. 5:3).
Возникающие вокруг Татьяны Брак конфликты в немалой мере связаны с эротически-«телесными» аспектами, но при этом героиня производит парадоксальное впечатление «недовоплощенности» – ее «собственный» облик как бы неполон. Так, по мнению Вилы (с которым, впрочем, его приятели не согласны), «в Татьяне Брак мы любили гибкое зеркало, отразившее все, с чем мы сжились и что нам было дорого» (65), – иными словами, каждый вкладывает в ее образ собственное содержание. Показательно, что Татьяна Брак не опасается покушений на свою честь – словно они не могут изменить ее исконной сущности; ср. фразу Вилы: «Это исключительно храбрая девушка. Она даже венерических болезней не боится» (66–67). Характерно также суждение ГР, в котором «бестелесность» героини утверждается довольно определенно (хотя это утверждение замаскировано мыслью о целомудрии генерала): «…генерал Сойкин любил Татьяну7 какой-то необыкновенной, деликатной любовью <…> мысль о возможности обладания Татьяной, наверное, привела бы его в ужас <…> Генерал всю жизнь был влюблен в музыку» (65). Кстати, его антагонист, также имеющий отношение к музыке, относится к Татьяне Брак платонически: Лазарь Рашевский, пребывающий на вершинах «абсолютной» гармонии, подобно Сойкину (если не в большей степени), далек от всего материального (хотя и руководит грабежами), подчиняясь лишь абстракции – «нелепой точности политической доктрины» (72); в его весьма близких отношениях с Татьяной Брак незаметно ни малейшего эротизма.
Музыкальная тема в рассказе вносит дополнительные штрихи в образ героини; можно сказать, что и сама она имеет «музыкальную» природу. Недаром, например, подчеркнуто, что мать Татьяны «давала уроки музыки» (64). Характерно, что именно Лазарь, великолепный музыкант, смог «овладеть» Татьяной Брак и хотя бы отчасти «управлять» ею (хотя одновременно можно говорить о его «порабощенности» героиней): вероятно, дух анархии по-своему корреспондирует с «музыкальной» стихийностью ее натуры (впрочем, на практике анархизм оказывается лишен всякой духовности).
Отсюда же – парадоксальное соединение в образе Татьяны Брак признаков гармоничности и аморфности, телесности и бесплотности: «…мы любовались <…> удивительным совершенством ее тела» (64); «…мы любили в Татьяне Брак ее необыкновенную законченность, ее твердость и определенность, непостижимым образом сочетавшиеся с женственностью и нежностью» (65). Обратим внимание и на явно двусмысленную фразу героя-рассказчика: «…не была ли Татьяна Брак самой блистательной героиней нашей фантазии?» (66) – откуда, в частности, следует, что «в реальности» она, возможно, и не существовала. Такое амбивалентное сочетание создает образ неустойчивой гармонии, в которой противоположности сложно взаимодействуют, не переставая, однако, оставаться противоположностями.
Изображая Татьяну Брак, автор рассказа нередко использует контрастный колорит – прежде всего сочетание черного и белого цветов. Общее визуальное впечатление от ее внешности – «черная фигура» (71), и на этом «фоне» примечательна такая деталь, как «белые волосы» (64); тут же говорится о ее матери – «маленькой седой женщине»: через внешнее сходство мать и дочь как бы уравнены в возрасте. Вневременность» Татьяны Брак еще активнее «актуализируется в финале рассказа – убитая героиня сама начинает воплощать образ смерти: «Белые ноги товарища Брак раскинулись на мерзлом снегу; в полуоткрытом рту чернел остановившийся маленький язык» (78).
Исчезновение Татьяны Брак становится «смертоносным» для всех основных персонажей рассказа: одни погибают физически (Сергеев, Рашевский), другие (ГР и его друзья) оказываются навеки «привязаны» к прошлому и фактически умирают заживо: некогда встреченное воплощение «абсолюта» стало для них точкой «прекращения» пути. Слова ГР: «Мы исчезли в черных туманах смуты»8 (79), – относятся не только к давним событиям, но также к «нынешнему» (уже бесконечному) существованию их «троицы»; а неотвязное зрелище: «…я вижу <…> черный силуэт товарища Брак, проходящий в пустынных улицах» (81), – столь же реально, сколь иллюзорно. Примечательно, что спустя 30 лет после создания рассказа «Татьяна Брак» сходный образ главной героини будет воплощен Газдановым в рассказе «Судьба Саломеи», где о мнимо погибшей женщине говорится: «Это была смерть. Не Саломеи, <…> а того мира, частью которого она была для нас, которого больше действительно не было, но вне призрачного воспоминания о котором мы не представляли себе нашего существования» (3, 577).
Мужские персонажи рассказа по-своему «онтологически» соответствуют Татьяне Брак – в их образах тоже сочетаются качества «реальности» и «призрачности». «Рассказчик, “генерал Сойкин” и Вила представляют собой три аллегорические ипостаси единого, а точнее – триединого субъекта»9. Между ними как бы распределены функции: генерал Сойкин воплощает активно-волевое, деятельное начало; Вила играет роль «разведчика» и, так сказать, «штурмана»; ГР выступает как «хроникер». Одна из характерных черт всех троих – фактическая анонимность в сочетании либо с отсутствием индивидуальных свойств (например, о безымянном ГР мы не можем сказать практически ничего), либо с предельной извращенностью их проявлений.
В этом отношении особенно интересен генерал Сойкин10, который «вообще не был военным» (64), а возможно, не был и «Сойкиным»11. Он «один из самых кротких людей» – но при этом «невольный участник кровавых событий» (64), совершающий поступки, несвойственные его характеру «пацифиста» (68), сам глубоко от них страдающий; ср. поведение персонажа, только что задушившего «товарища Сергеева»: «Боже мой, – бормотал генерал, – какая жестокость!..» (79). Сколь бы «вегетарианскими» ни провозглашалась намерения этого героя, его существование среди людей связано с постоянными проявлениями «неукротимого бешенства» (68). Объективно он предстает человеком весьма агрессивным: «На него постоянно нападали <…> и мирный Сойкин был вынужден отвечать на удары ударами» (68) – причем энергия этих «ответов» превышает интенсивность нападения (вспомним, например, эпизоды с Сергеевым [67–68] и половым в паштетной [75]). С учетом подчеркнутой анахроничности генерала его определение как «каменной фигуры» (66) кажется не вполне метафорическим: он и впрямь не человек, а живая статуя, вроде статуи Командора, – тем более что тот, с кем генерал расправляется наиболее жестоко («товарищ Сергеев»), прямо назван «донжуаном» (79). Да и место жительства Сойкина – «непосредственно над бюро похоронных процессий» (68) – своеобразно подкрепляет ассоциацию с кладбищенским памятником.
О третьем из приятелей, Виле, прямо говорится, что он «был человеком совершенно неопределенного типа» и у него не было «ничего решительно из того, чем один человек отличается от другого» (65). Именование персонажа, как и в случае с генералом, «недостоверно»: остается неясным, фамилия это или прозвище. Кстати, в южнославянской мифологии вилы – демонические женские существа, наделяемые как положительными так и отрицательными свойствами, часто крылатые, обладающие огромной физической силой12 (ср., например, поэму В. Хлебникова «Вила и леший»). Столь странная мифопоэтическая коннотация делает образ героя еще более неопределенным; но кое-какие намеки на его «мистические» способности в рассказе есть. Виле присуща «необыкновенная, инстинктивная способность к ориентации» (65); как бывший учитель истории и географии (69) он «в наибольшей степени изо все троицы причастен ко времени и пространству»13. К тому же наделен свойством «всеведения», «обладает собачьим чутьем» (74), несколько раз подчеркивается его необъяснимая информированность: «Каким-то непонятным путем Вила узнал…» (67); «…о его [Рашевского] гибели и мужественном поведении нам только потом рассказал Вила» (72).
Однако, каковы бы ни были герои, смысл их существования фатально сосредоточен в Татьяне Брак и исчезает с ее гибелью – вернее, сводится к воспоминаниям. Эпиграф из пушкинской «Элегии»: «Но, как вино – печаль минувших дней / В моей душе чем старе, тем сильней» (64), – собственно, и означает, что прошлое становится все более и более актуальным, подменяя реальность. В нарративном же настоящем существование героев пусто и бессмысленно: «…мы вновь видим себя в нашем нищенском благополучии. Генерал проводит время в лирических некрологах (т. е., видимо, сочиняет стихи, посвященные Татьяне Брак. – Е. Я.), Вила изучает историю парламентаризма» (81).
Последняя фраза рассказа: «И я вижу встающий из рухнувшего хлама календарей – черный силуэт товарища Брак, проходящий в пустынных улицах», – тем более подчеркивает, что время уступило место «безвременью» и пространственные координаты потеряли смысл. Герои «умерли заживо» – иначе говоря, Татьяна Брак обрела для них статус вечно живой. Еще в прошлом (т. е. «при жизни») они вместе с героиней представляли собой группу вполне «потусторонних» существ: «в длинной галерее печальных белых огней двигалось несколько черных фигур <...> черный силуэт Татьяны Брак, идущей между белым и фонарями, остался для нас одним из самых убедительных, самых прекрасных образов нашей памяти»14 (71); теперь же это «шествие» стало, так сказать, вечно длящимся. Вскоре после «Татьяны Брак» сходный мотив станет структурообразующим в романе «Вечер у Клэр», герой которого, соединившись с героиней и таким образом «завершив» длительный путь, оказывается в состоянии, близком к смерти.
Для полноты картины отметим, что коллизия явленияи сущности затрагивает и тех мужских персонажей рассказа, которые по отношению к главной героине выступают как «губители»15. Недаром, например, Сергеев воплощен «в двух лицах»: вначале он коммерсант, в финале – красный командир. Двойствен и образ Лазаря Рашевского, предстающего в одно и то же время вдохновенным музыкантом и ограниченным догматиком16. Персонаж воплощает демоническое, дьявольское начало, и впечатление от его игры на рояле («мы услышали такую музыку, какой еще никогда не слыхали» [73]) загадочно, ибо неясно, с каким именно высшим началом связана такая музыка. Вполне «демонична» и внешность Рашевского, который явно похож на паука: «…длинная, худая, гибкая фигура, необыкновенно тонкие и липкие пальцы, быстрые, обезьяньи, отвратительные движения» (72).
Имя предводителя анархистов, разумеется, наталкивает на новозаветные ассоциации17. Однако больше, чем евангельского Лазаря, он напоминает Елеазара из одноименного рассказа Л. Андреева: его холодная смертоносность связана с причастностью к Тайне, знать которую смертный не должен. Косвенным аргументом в подтверждение может служить цитата из позднейшего рассказа Газданова «Вечерний спутник»: «…Какая польза от того, что вы знаете вещи, которых вы не должны были знать? Это все та же история Лазаря: оттуда не возвращаются» (3, 510). «Потустороннее» знание Рашевского воплощено в музыке. Поэтому, кстати, его игра на рояле перед смертью (поступок, который герой-рассказчик считает «сентиментальным» [80]) вполне адекватна ситуации: музыка не есть средство отсрочить смерть и отнюдь не противостоит ей – две эти «субстанции» в газдановском рассказе как бы дополняют друг друга. Впрочем, есть здесь и иная музыка – та, которой привержен генерал Сойкин (символизируемая не роялем, а мандолиной): разница между двумя типами искусства, вероятно, укладывается в оппозицию «человеческое» – «сверхчеловеческое».
И Лазарь, и Татьяна Брак остаются в памяти как туманные картины «сверхчеловеческой» эпохи. ГР мечтает об «оживляющем» импульсе, который исчез вместе с героиней: «…пожалуй, только Татьяна Брак могла бы вновь воскресить перед нами эти пустыни поэзии, в синей белизне которых нам не перестает слышаться торжественная музыка того времени. Но Татьяна Брак, к сожалению, погибла» (72). Впрочем, ГР сам (незаметно для себя) играет «воскрешающую» роль – благодаря ему персонажи «оживают» в слове. Высокое искусство приходит на место «живой» жизни и начинается там, где завершилось «подлинное» существование.
Е. А. Яблоков. Нерегулируемые перекрестки. М., 2005.
![]()
1![]() Рассказ «Товарищ Брак» цитируется по: Газданов Г. Собр. соч.: В 3 т. М., 1999. т. 3 – с указанием страницы; тексты других произведений Газданова – по тому же изданию с указанием тома и страницы.
Рассказ «Товарищ Брак» цитируется по: Газданов Г. Собр. соч.: В 3 т. М., 1999. т. 3 – с указанием страницы; тексты других произведений Газданова – по тому же изданию с указанием тома и страницы.
2![]() Ср. сходную по алогизму ситуацию в романе «Вечер у Клэр»: «…Простите меня, я не знал, что под пенсне вашей горничной скрыта трагедия какого-то женского Дон-Жуана, который, однако, любит, чтобы на нем женились, в противоположность Дон-Жуану литературному, относившемуся к браку отрицательно» (1, 41).
Ср. сходную по алогизму ситуацию в романе «Вечер у Клэр»: «…Простите меня, я не знал, что под пенсне вашей горничной скрыта трагедия какого-то женского Дон-Жуана, который, однако, любит, чтобы на нем женились, в противоположность Дон-Жуану литературному, относившемуся к браку отрицательно» (1, 41).
3![]() Отметим возможную аллюзию на Ж. Брака – французского художника, одного из основателей кубизма в живописи. Характерно, что исследователи, анализируя стиль ранней газдановской прозы, отмечают его своеобразное сходство с кубистической эстетикой (Кабалоти С. Поэтика прозы Гайто Газданова 20–30-х годов. СПб., 1998. С. 39). Между прочим, французская тема подчеркнута (хотя и не очень интенсивно) в самом рассказе – мать Татьяны дает уроки французского языка (64), а о Лазаре Рашевском говорится, что тот долго жил во Франции (73).
Отметим возможную аллюзию на Ж. Брака – французского художника, одного из основателей кубизма в живописи. Характерно, что исследователи, анализируя стиль ранней газдановской прозы, отмечают его своеобразное сходство с кубистической эстетикой (Кабалоти С. Поэтика прозы Гайто Газданова 20–30-х годов. СПб., 1998. С. 39). Между прочим, французская тема подчеркнута (хотя и не очень интенсивно) в самом рассказе – мать Татьяны дает уроки французского языка (64), а о Лазаре Рашевском говорится, что тот долго жил во Франции (73).
4![]() Таковы, впрочем, и некоторые другие героини раннего Газданова (см.: Кабалоти С. Указ. соч. С. 188). Вспомним, что эпиграфом к роману «Вечер у Клэр» послужили строки из письма Татьяны к Онегину: «Вся жизнь моя была залогом / Свиданья верного с тобой» (1, 39). Впрочем, в первом газдановским романе, как и в ранних рассказах, эти слова звучат скорее от имени мужских персонажей, ожидающих долгожданной встречи с героиней.
Таковы, впрочем, и некоторые другие героини раннего Газданова (см.: Кабалоти С. Указ. соч. С. 188). Вспомним, что эпиграфом к роману «Вечер у Клэр» послужили строки из письма Татьяны к Онегину: «Вся жизнь моя была залогом / Свиданья верного с тобой» (1, 39). Впрочем, в первом газдановским романе, как и в ранних рассказах, эти слова звучат скорее от имени мужских персонажей, ожидающих долгожданной встречи с героиней.
5![]() Вероятно, эти черты тоже мотивированы пушкинскими ассоциациями: «Татьяна, русская душою, / Сама не зная почему, / С ее холодною красою / Любила русскую зиму».
Вероятно, эти черты тоже мотивированы пушкинскими ассоциациями: «Татьяна, русская душою, / Сама не зная почему, / С ее холодною красою / Любила русскую зиму».
6![]() Кабалоти С. Указ. соч. С. 191, 53–54.
Кабалоти С. Указ. соч. С. 191, 53–54.
7![]() Можно усмотреть сходство с судьбой героини «Евгения Онегина» – не столько романа, сколько оперы Чайковского. Ср. слова Гремина: «Безумно я люблю Татьяну»; здесь, кстати, тоже подчеркивается именно духовное влияние героини: «Она явилась и зажгла, / Как солнца луч среди ненастья». Вспомним также, что мужем пушкинской Татьяны становится именно генерал (в отличие от Сойкина – настоящий).
Можно усмотреть сходство с судьбой героини «Евгения Онегина» – не столько романа, сколько оперы Чайковского. Ср. слова Гремина: «Безумно я люблю Татьяну»; здесь, кстати, тоже подчеркивается именно духовное влияние героини: «Она явилась и зажгла, / Как солнца луч среди ненастья». Вспомним также, что мужем пушкинской Татьяны становится именно генерал (в отличие от Сойкина – настоящий).
8![]() В аспекте пушкинских ассоциаций отметим, что образ «черной смуты» (анархизм, махновщина и т. п.) отсылает к теме «русского бунта» в «Капитанской дочке».
В аспекте пушкинских ассоциаций отметим, что образ «черной смуты» (анархизм, махновщина и т. п.) отсылает к теме «русского бунта» в «Капитанской дочке».
9![]() Кабалоти С. Указ. соч. С. 38.
Кабалоти С. Указ. соч. С. 38.
10![]() Отметим литературную реминисценцию: генерал (впрочем, «настоящий») с «птичьей» фамилией Иволгин – один из персонажей романа Ф. Достоевского «Идиот». Как известно, произведения Достоевского вообще изобилуют «птичьими» фамилиями (см.: Альтман М. С. Достоевский: По вехам имен. Саратов, 1975. С. 72–74).
Отметим литературную реминисценцию: генерал (впрочем, «настоящий») с «птичьей» фамилией Иволгин – один из персонажей романа Ф. Достоевского «Идиот». Как известно, произведения Достоевского вообще изобилуют «птичьими» фамилиями (см.: Альтман М. С. Достоевский: По вехам имен. Саратов, 1975. С. 72–74).
11![]() Между прочим, в конце XIX – начале XX в. эта фамилия была широко известна в России: П. П. Сойкин издавал журналы «Природа и люди», «Мир приключений», «Знание для всех», а также собрания сочинений многих писателей. Издательство Сойкина продолжало существовать в СССР до 1930 г.
Между прочим, в конце XIX – начале XX в. эта фамилия была широко известна в России: П. П. Сойкин издавал журналы «Природа и люди», «Мир приключений», «Знание для всех», а также собрания сочинений многих писателей. Издательство Сойкина продолжало существовать в СССР до 1930 г.
12![]() Славянские древности: Этнолингвистический словарь. М., 1995. Т. 1. С. 370.
Славянские древности: Этнолингвистический словарь. М., 1995. Т. 1. С. 370.
13![]() Кабалоти С. Указ. соч. С. 42.
Кабалоти С. Указ. соч. С. 42.
14![]() Эти слова, завершающие один из фрагментов рассказа, представляют собой, так сказать, его первый, «промежуточный», финал. В следующем фрагменте совершается резкий переход к нарративному настоящему («Спустя много лет генерал Сойкин мне говорил…» [71]), подкрепляемый поговоркой генерала («утекло чрезвычайно много воды»), которая будет процитирована и в «окончательном» финале, где видим повторение тех же самых мотивов, что звучали в середине рассказа.
Эти слова, завершающие один из фрагментов рассказа, представляют собой, так сказать, его первый, «промежуточный», финал. В следующем фрагменте совершается резкий переход к нарративному настоящему («Спустя много лет генерал Сойкин мне говорил…» [71]), подкрепляемый поговоркой генерала («утекло чрезвычайно много воды»), которая будет процитирована и в «окончательном» финале, где видим повторение тех же самых мотивов, что звучали в середине рассказа.
15![]() Сходным образом завершаются и жизни этих персонажей: Сергеев «казнен» (причем дважды, но в первый раз «неокончательно») мнимым генералом Сойкиным; Рашевский – реальным генералом Сивухиным. Сходны и способы казни (удушение – повешение).
Сходным образом завершаются и жизни этих персонажей: Сергеев «казнен» (причем дважды, но в первый раз «неокончательно») мнимым генералом Сойкиным; Рашевский – реальным генералом Сивухиным. Сходны и способы казни (удушение – повешение).
16![]() В духе «многоязычной» этимологии фамилии Брак фамилию Рашевский можно соотнести как с англ. «Russia», так и с франц. roche – «скала, утес». Английская форма этого слова, «rock», в русской огласовке ассоциируется с роком и вполне соответствует «губительной» роли, которую играет Лазарь в судьбе героини. Кстати, подобная игра разноязычными омофонами ведется в повести М. Булгакова «Роковые яйца», где Рокк сочетает те же качества, что и Рашевский: музыкант / «революционер».
В духе «многоязычной» этимологии фамилии Брак фамилию Рашевский можно соотнести как с англ. «Russia», так и с франц. roche – «скала, утес». Английская форма этого слова, «rock», в русской огласовке ассоциируется с роком и вполне соответствует «губительной» роли, которую играет Лазарь в судьбе героини. Кстати, подобная игра разноязычными омофонами ведется в повести М. Булгакова «Роковые яйца», где Рокк сочетает те же качества, что и Рашевский: музыкант / «революционер».
17![]() Некоторые черты газдановского Лазаря напоминают о Христе. Например, описание пытки: «…били его по бритой голове раскаленным шомполом» (80), – явно похоже на истязания Иисуса: «…взявши трость, били его по голове» (Матф 27:30). Примечательна и фраза, которую произносит мать Татьяны Брак в сцене, когда дочь прощается с ней, уходя с анархистами (т. е. с «Лазарем»): «Ну, Христос с тобой, Танечка» (76). Кстати, этимологическое значение имени Лазарь (Елеазар) – «Бог помог».
Некоторые черты газдановского Лазаря напоминают о Христе. Например, описание пытки: «…били его по бритой голове раскаленным шомполом» (80), – явно похоже на истязания Иисуса: «…взявши трость, били его по голове» (Матф 27:30). Примечательна и фраза, которую произносит мать Татьяны Брак в сцене, когда дочь прощается с ней, уходя с анархистами (т. е. с «Лазарем»): «Ну, Христос с тобой, Танечка» (76). Кстати, этимологическое значение имени Лазарь (Елеазар) – «Бог помог».