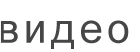1
Тема «Газданов и Булгаков» не разработана литературоведами, хотя, при внешнем стилевом несходстве, в текстах этих авторов можно обнаружить немало общих мотивов и «типажей». Прежде чем обратиться собственно к художественным произведениям двух писателей, отметим некоторые «точки соприкосновения» в их биографиях. Внимание привлекает уже тот факт, что именно на «исторической родине» Газданова – во Владикавказе (куда будущий автор «Вечера у Клэр» в детстве ездил в гости к дедушке и бабушке), совершился важнейший перелом в жизни будущего автора «Мастера и Маргариты»: превращение врача Булгакова в писателя Булгакова; его жизнь была связана с этим городом в течение полутора лет – с 1919 по 1921 г. Во Владикавказ Булгаков приехал в октябре 1919; затем около месяца находился в Грозном и вновь вернулся в Осетию в конце ноября или начале декабря. Некоторое время работал в военном госпитале во Владикавказе, но оставил службу на рубеже 1919–1920 гг., начав заниматься журналистикой и публикуя свои статьи и фельетоны в белых газетах. В марте 1920 г., заболев тифом, Булгаков не смог покинуть город вместе с отступающими белыми – а когда он выздоровел, город уже был занят Красной армией (мотив тяжелой болезни героя, совпадающей с «переломом» политической ситуации, будет присутствовать в ряде произведений писателя).При Советской власти Булгаков стал работать во Владикавказе в подотделе искусств (где возглавлял вначале литературную, затем театральную секции), организуя литературные вечера, диспуты, концерты и выступая перед началом спектаклей с небольшими вводными лекциями. Кроме того, им было написано пять пьес, которые ставились местными труппами. До нас дошла лишь одна из них – «Сыновья муллы»; кстати, через десять лет после создания, в 1930 г., она вышла в переводе на осетинский язык в юго-осетинском журнале «Фидиуаг» (кстати, в том же году в письме Горькому Газданов сообщал, что его мать живет во Владикавказе1). К этим драматическим опытам сам автор относился как к «революционной» халтуре; вместе с тем, в письме к двоюродному брату 1 февраля 1921 г. он уже определенно говорит о писательстве как о своем единственном призвании2. В мае 1921 г. Булгаков уехал из Владикавказа в Тифлис, затем в Батум (где, по-видимому, пытался покинуть Россию морским путем), а затем (через Киев) – в Москву; пробыв полтора года «владикавказцем», с сентября 1921 г. он становится москвичом.
Как известно, владикавказская жизнь Булгакова и его первой жены нашла отражение в романе Ю. Слезкина «Столовая гора» – Булгаков явился прототипом его главного героя, Алексея Васильевича3; ср. дарственную надпись, сделанную Слезкиным на экземпляре романа: «…дарю любимому моему герою Михаилу Афанасьевичу Булгакову»4. Булгаков же, судя по всему, не позволял небезопасным воспоминаниям о 1919–1921 гг. «прорываться» в создававшиеся им произведения; хотя кое-какие «кавказские» мотивы здесь все же можно обнаружить. Например, в одном из ранних (1933) вариантов «романа о дьяволе» Степа Лиходеев после своего похмельного пробуждения и встречи с Воландом оказывался перенесен не в Ялту, а именно во Владикавказ:
«Открыв глаза, он увидел себя в громаднейшей тенистой аллее под липами. Первое, что он ощутил, это что ужасный московский воздух, пропитанный вонью бензина, помоек, общественных уборных, подвалов с гнилыми овощами, исчез и сменился сладостным послегрозовым дуновением от реки. И эта река, зашитая по бокам в гранит, прыгала, разбрасывая белую пену, с камня на камень в двух шагах от Степы. На противоположном берегу громоздились горы, виднелась голубоватая мечеть. Степа поднял голову, поднял отчаянно голову вверх и далее на горизонте увидал еще одну гору, и верхушка ее была косо и плоско срезана»5.
Писатели никогда не встречались друг с другом, но линии двух судеб местами столь близки, что сам Газданов (и, соответственно, герой его первого романа) кажется похожим на булгаковского персонажа или даже родственника. Известно, сколь сильно повлияло на мироощущение и творчество Булгакова то, что в течение нескольких лет он не знал, живы ли его младшие братья Николай (1898–1966) и Иван (1900–1969); будучи людьми того же поколения, что Газданов, они также воевали в Добровольческой армии, в 1920 г. эмигрировали6 и всю жизнь прожили за границей – умерли и похоронены во Франции. Неудивительно, что в газдановских и булгаковских произведениях есть сходные сцены: вспомним, например, эпизод «Вечера у Клэр», где мать упрашивает Николая не ехать на фронт7, и рассказ Булгакова «Красная корона» (1922), в котором мать умоляет героя-рассказчика, чтобы тот уговорил вернуться с фронта своего младшего брата Колю (1, 444).
Не вполне ясно, почему Газданов дал автобиографическому герою имя Николай (возможно, оно как-то связано с образом деда по материнской линии); что касается «Белой гвардии» и «Дней Турбиных», здесь Николка, несомненно, ассоциируется для Булгакова с младшим братом. В финале «Вечера у Клэр» Николай Соседов вместе с остатками разгромленных добровольцев уплывает в ноябре 1920 г. из Феодосии – в этом эпизоде воспроизведен реальный факт биографии самого Газданова8. Но интересно, что Николай Булгаков (вступивший в Киеве осенью 1919 г. в Добровольческую армию) с зимы 1919–1920 гг. тоже находился в Феодосии, где служил в тыловых частях Добрармии, и именно из этого города, в числе прочих добровольцев, в ноябре 1920 г. эвакуировался в Турцию. Затем Н. Булгаков оказался в Хорватии, где окончил Загребский университет и стал микробиологом; в середине 1929 г. (как раз в то время, когда Газданов завершал «Вечер у Клэр») переехал в Париж ради научно-исследовательской работы. Младший из братьев Булгаковых, Иван, тоже воевал в Добровольческой армии и после эвакуации из Крыма (скорее всего, из Севастополя) в течение 10 лет жил в Варне (в 1922–1923 гг. в Болгарии находился и Газданов – он оканчивал русскую гимназию в Шумене). В сентябре 1930 г. по вызову брата Николая Иван Булгаков переселился в Париж, где в течение всей жизни работал в оркестре русского ресторана; кстати, с начала 1920-х годов писал стихи и некоторые из них посылал в Москву Михаилу9.
Трудно сказать, был ли Газданов знаком с Николаем Булгаковым – вопрос об их возможных контактах в Феодосии или Париже остается открытым и представляет немалый интерес; однако пройти мимо произведений жившего в Москве Михаила Булгакова он, скорее всего, не мог. «Высокую литературную репутацию Булгакова зафиксировала, например, специальная анкета газеты “Дни”, проведенная в октябре 1927 г. Ее респондентами были М. Осоргин, Н. Оцуп, Вл. Ходасевич, М. Цетлин (Амари) и другие литераторы, назвавшие имя Булгакова в числе самых талантливых писателей современной России»10. Осенью 1927 г. во всех ведущих эмигрантских газетах («Возрождение», «Дни», «Последние новости», «Россия» и др.) печатались сообщения о том, что Русский театр в Париже готовит постановку «Дней Турбиных»; пьеса называлась «сенсационной», «нашумевшей» – хотя эта инсценировка романа «Белая гвардия», судя по всему, имела мало общего с собственно булгаковской пьесой11. Именно в Париже в 1927–1929 гг. вышло первое авторизованное12 издание «Белой гвардии»13; 20 октября 1927 и 25 апреля 1929 г. в газете «Последние новости» о романе весьма положительно отозвался М. Осоргин с которым Газданов был близко знаком. По итогам одного из опросов, проведенного в 1929 г. среди абонентов Тургеневской библиотеки в Париже, Булгаков попал в «двадцатку» самых читаемых писателей, сразу же следуя за Пушкиным, Л. Толстым, Чеховым и Буниным14. В июле 1929 г. в парижском журнале «Vie» (№ 71) печатался отрывок из повести «Роковые яйца» под заглавием «La mort des poules» – «Куриный мор»; ср. в самой булгаковской повести карикатурное заглавие «пьесы писателя Эрендорга» (т. е. Эренбурга) «Куриный дох» (2, 76). Вероятно, до Газданова могли докатиться и отголоски истории с «Бегом», который осенью 1928 г. был в СССР запрещен к постановке; в июле 1929 г. Булгаков в письме к Сталину сообщал, что просил разрешения отправить пьесу «Бег» за границу, «чтобы охранить ее от кражи за пределами СССР», однако «получил отказ» (5, 432).
Примечательно, что оба писателя, обратившись к теме гражданской войны (в которой участвовали под одним и тем же знаменем), сходны в стремлении быть «над схваткой»: не случайно и газдановский, и булгаковские герои-протагонисты отличаются неопределенным мировоззрением и глубинным политическим индифферентизмом. Так, в «Вечере у Клэр» Соседов говорит, что идет воевать «без убеждения, без энтузиазма, исключительно из желания вдруг увидеть и понять на войне такие новые вещи, которые, быть может, переродят» его (1, 119–120): «Мысль о том, проиграют или выиграют войну добровольцы, меня не очень интересовала. Я вступал в белую армию потому, что находился на ее территории, потому, что так было принято; и если бы в те времена Кисловодск был занят красными войсками, я поступил бы, наверное, в красную армию» (1, 111)15.
Николай признаётся, что совсем не верит в победу «добровольцев» и оттого не будет разочарован, если те проиграют (1, 119). Это весьма созвучно булгаковской прозе, автобиографические персонажи которой мечтают о «покое» (вспомним героев «Необыкновенных приключений доктора», «Белой гвардии», «Мастера и Маргариты») и где неоднократно подчеркивается мысль о том, что противоборствующие в гражданской войне лагеря, в сущности, тождественны; как говорит в романе «Белая гвардия» Бог: «Один верит, другой не верит, а поступки у вас у всех одинаковые: сейчас друг друга за глотку <…> все вы у меня <…> одинаковые – в поле брани убиенные» (1, 236). В рецензии на булгаковский роман Осоргин подчеркивал отсутствие вредной идеологической «тенденциозности» у его автора: «…отрицательные и положительные черты героев романа не зависят от политической их веры <…> идея романа лежит вне партий и программ»16. Вспомним также известные слова из письма Булгакова Правительству СССР 28 марта 1930 г., в котором писатель говорил о своих «великих усилиях стать бесстрастно над красными и белыми» (5, 447).
На мысль о знакомстве автора «Вечера у Клэр» с творчеством Булгакова наводят характерные текстуальные совпадения. Так, в газдановском романе фигурирует гимназический товарищ героя Щур – «один из самых способных и умных» (1, 104; здесь и далее курсив в цитатах – мой), явно придерживающийся левых взглядов: он отговаривает Николая от участия в Добровольческой армии, говоря, что «через две недели наши будут в городе» (1, 119). Его «предшественником» в романе «Белая гвардия» кажется «умный коренастый блондин Щур» (1, 293), сподвижник «демонического» большевистского эмиссара и «губителя Города» Шполянского. Обращает на себя внимание и газдановский «солдат Даниил Живин» – «один из самых смелых людей», который «был в такой степени лишен честолюбия и так был способен забывать о себе для других, что это казалось невероятным. Он пережил множество приключений, служил во всех армиях гражданской войны – у красных, у белых, у Махно, у гетмана Скоропадского, у Петлюры и даже в отряде эсера Саблина <…>. У Махно его назначили в особую роту пехотного полка, охранявшую мост через Днепр» (1, 125). Вспомним, что эпизод на мосту через Днепр (охраняемом петлюровцами) присутствует в целом ряде булгаковских произведений – «Необыкновенных приключениях доктора», «Белой гвардии», рассказе «Я убил» и др.
Образ Живина, явно символический и собирательный («солдат всех армий»), напоминает образ покойного вахмистра Жилина, который присутствует в двух эпизодах «Белой гвардии»: в первом сне Алексея Турбина и в сне часового-красноармейца. Для Турбина, служившего «младшим врачом в Белградском гусарском полку» (1, 246), Жилин – бывший однополчанин (1, 233); для красноармейца-часового – земляк из деревни Малые Чугры (1, 425). Являясь в снах, он выступает «представителем» небесных сфер; через его посредство «белогвардеец» Турбин и безымянный красноармеец вступают в некие неведомые им неантагонистические отношения: «Вахмистр Жилин <…> остается братски близким обоим, военному врачу и рядовому красноармейцу, в результате революционных потрясений поставленным в трагическое смертельное противостояние»17.
Кстати, ощущения часового у бронепоезда «Пролетарий» весьма напоминают самочувствие Николая Соседова, воюющего на бронепоезде «Дым». Так, в «Белой гвардии» читаем: «Человек ходил методически, свесив штык, и думал только об одном, когда же истечет наконец морозный час пытки и он уйдет с озверевшей земли вовнутрь, где божественным жаром пышут трубы, греющие эшелоны, где в тесной конуре он сможет свалиться на узкую койку, прильнуть к ней и на ней распластаться» (1, 424–425).
Сравним в «Вечере у Клэр»: «Я стоял на площадке вагона, смотрел перед собой, мерз на шестнадцатиградусном морозе – и мечтал о теплом купе в базе моего бронепоезда, электрической лампочке, книгах, горячем душе и теплой постели» (1, 149).
Пожалуй, из всех булгаковских произведений наиболее явственно «перекликается» с судьбой Газданова (и его героя) пьеса «Бег». Бросается в глаза, например, тождественная «география» событий: Крым – Константинополь – Париж. Совершенно «по-булгаковски» Газданов стремится соотнести отступление и эвакуацию добровольцев с архетипическим сюжетом «Исхода», вместе с тем придавая исторической катастрофе подчеркнуто-«зрелищный» и слегка пародийный характер: «Эти люди точно участвовали в безмолвной минорной симфонии театрального зала; они впервые увидели, что у них есть биография, и история их жизни, и потерянное счастье, о котором раньше они только читали в книгах. И Черное море представлялось мне как громадный бассейн Вавилонских рек, и глиняные горы Севастополя – как древняя стена плача» (1, 146).
Что касается булгаковской драмы – уже ее заголовок «Бег», в сущности, представляет собой пародийное переосмысление Исхода: это, так сказать, «Анти-Исход», поскольку «Земля обетованная» (Россия) оказывается не впереди, а позади18. Тематической близостью обусловлены и одинаковые выразительные детали в «Вечере у Клэр» и «Беге» – например, многочисленные столбы с телами повешенных: «Синельниково, покрытое снегом, трупы махновцев, повешенных на телеграфных столбах, – замерзшие твердые тела, качающиеся на зимнем ветру и ударяющиеся о дерево столбов с тупым легким звуком <…> …это путешествие все еще продолжается во мне и, наверное, до самой смерти временами я вновь буду чувствовать себя лежащим на верхней койке моего купе и вновь перед освещенными окнами, разом пересекающими и пространство и время, замелькают повешенные, уносящиеся под белыми парусами в небытие» (1, 136–137).
В булгаковской пьесе «мешки», висящие на «фонариках», – один из лейтмотивных образов, имеющий важнейшее значение в судьбе главного героя – Хлудова (3, 231, 233, 235–237, 246, 273, 275, 277). Стоит обратить внимание и на значение «температурных» оппозиций: в «Беге» Константинополь противопоставлен России как мир жары и духоты – царству прохлады и мороза; ср. реплики о Константинополе: «Ужасный город! Нестерпимый город! Душный город! <...> Никогда нет прохлады, ни днем, ни ночью!» (3, 263), – и о России: «Помню, какой славный бой был под Киевом, прелестный бой! Тепло было, солнышко, но не жарко» (3, 252); «Помните, мороз, окна, фонарь – голубая луна?» (3, 266); «Я хочу опять на Караванную, я хочу опять видеть снег!» (3, 276). В «Вечере у Клэр» основной образ России – «страна снегов», от которой герой отделен «огненным занавесом» (1, 152); в финале романа «желтый туман» субтропических островов Индийского океана противопоставлен «Петербургу с замерзшей водой» (1, 153).
Как в первом романе Газданова, так и в «Белой гвардии» и «Беге» большое значение имеет образ бронепоезда. Само по себе совпадение еще ни о чем не говорит, но позволяет поставить более широкую проблему: актуальным в творчестве обоих писателей оказывается мотив «железного пути»; мы употребляем это словосочетание не только в переносном («суровый» и т. п.19), но и в буквальном смысле – как родовое понятие для нескольких сходных видов транспорта: поезд, трамвай, метрополитен; кстати, словосочетание «железный путь» в значении «железная дорога» встречается в булгаковском рассказе «Пропавший глаз» (1, 122). Общей чертой для Газданова и Булгакова является, во-первых, явная символичность «транспортных» образов20, во-вторых, их оценочная амбивалентность: «железный путь» судьбоносен, но трудно однозначно определить – к добру или злу он ведет.
2
Обращаясь к роману «Вечер у Клэр», сопоставим сперва некоторые очевидные факты. Уже на первой странице «железный путь» вводится как постоянный «атрибут» образа героя. Повествование начинается с того, что Николай ежевечерне приезжает к Клэр и еженощно возвращается домой пешком – поскольку «всякий раз неизменно опаздывал к последнему поезду метрополитена»: «…последним воспоминанием вчерашнего дня было воспоминание о том, что я опять опоздал на поезд» (1, 39). В кульминационный вечер проблема опоздания «снимается»: сблизившись с Клэр, Николай остается у нее.Герой прямо отождествляет свою жизнь с постоянным странствованием: «Семья моего отца часто переезжала с места на место, нередко пересекая большие расстояния» (1, 52); «Всякий отъезд был для меня началом нового существования» (1, 118). Ясно, что поезд – «образ жизни» и символ судьбы героя; но какова эта судьба, в чем ее логика? Как нам представляется, смысловой доминантой «железнодорожного» мотива в романе оказывается немотивированность и нецеленаправленность перемещений: мы точно так же не знаем о причинах постоянных переездов семьи Николая, как, например, не знаем, почему он оставляет кадетский корпус (1, 70) или после пяти лет учебы в одной гимназии переходит в другую (1, 102).
Ощущение постоянного путешествия особенно усиливается, когда герой оказывается на бронепоезде: «Пребыванию на бронепоезде я обязан <…> чувством постоянного отъезда <…> это путешествие все еще продолжается во мне, и, наверное, до самой смерти временами я вновь буду чувствовать себя лежащим на верхней полке моего купе <…> и пойдет скользить, подпрыгивая, эта тень исчезнувшего поезда, пролетающего сквозь долгие годы моей жизни» (1, 137).
Заметим, что бронепоезд принципиально отличается от «обычного» транспортного средства: его движение «самоценно» – и, кроме того, непредсказуемо, поскольку подчинено сиюминутным обстоятельствам войны. Особенно показателен мотив его «метаний»: «Целый год бронепоезд ездил по рельсам Таврии и Крыма, как зверь, загнанный облавой и ограниченный кругом охотников. Он менял направления, шел вперед, потом возвращался, затем ехал влево, чтобы через некоторое время опять мчаться назад. На юге перед ним расстилалось море, на севере ему заграждала путь вооруженная Россия» (1, 139–140).
Кстати, бронепоезд носит «эфемерное» название «Дым» (1, 120)21. Характерно, что герой продолжает стремиться к нему, когда тот уже «улетучился», доставшись красным: «…пробыв в Севастополе несколько дней, я отправился обратно на бронепоезд, который еще был в моем воображении таким, каким я его оставил; в самом же деле он давно был захвачен красноармейскими отрядами» (1, 146–147), – фраза содержит намек на то, что Николай, возможно, еще в Севастополе знает о судьбе бронепоезда (особенно показательно слово «давно»), поэтому стремление героя «обратно» выглядит особенно нелогично. Столь же парадоксально звучат слова: «…я нашел тех сорок человек, которые продолжали называться бронепоездом “Дым”, хотя бронепоезда больше не было» (1, 150). Вся жизнь героя, по его собственному признанию, осенена «тенью исчезнувшего поезда» (1, 137); но, как мы убедимся, значение эфемерного и нематериального в его жизни далеко не ограничивается этим «призраком».
Образ «железного пути» в «Вечере у Клэр» оценочно амбивалентен, поскольку неясна, двойственна цель движения: данная идея абсолютно соответствует общей структуре произведения, и образ пути здесь адекватен целостной модели мира. В художественном мире романа в рамках «единого» Парижа персонажи существуют как бы в разных хронотопах: движение Николая к Клэр – это всякий раз путь «из России». Не случайно, возвращаясь домой, герой постоянно отождествляет реку с морем: «над Сеной горели, утопая в темноте, многочисленные огни, и когда я глядел на них с моста, мне начинало казаться, что я стою над гаванью и что море покрыто иностранными кораблями, на которых зажжены фонари» (1, 39) – фактически он всякий раз пересекает «бухту в Севастополе, покрытую множеством судов, на которых светились огоньки» (1, 152), т. е. каждую ночь возвращается пешком «в Россию» – «через море». Это впечатление подкрепляется и явной фабульной «паузой»: по словам Соседова, он вспоминает все, что предшествовало его вечерам у Клэр (1, 46), однако на самом деле речь идет лишь о жизни в России; получается, что из воспоминаний «выпало» около семи лет пребывания в эмиграции, – еще одно подтверждение тому, что «между Россией и Клэр» для героя ничего нет. Ежевечерний путь к героине – это повторение «исхода» из России, от родины и от матери; соответственно, «соединение» с Клэр – как бы обретение «новой» матери и «новой» России, «завершение» судьбы; однако этот результат не может оцениваться как однозначно положительный.
Не случайно в финале романа (кстати, по логике фабульного времени развязка совершается уже в начале повествования, так что «финал» хронологически предшествует «зачину») эвакуация добровольцев явно представлена как переход в «иной» мир – совмещаются мотивы плавания и полета, «переселяющиеся» души буквально проходят «сквозь огонь и воду»22:
«…в пустых складах раздавалось гулкое эхо наших разговоров, и казалось, рядом с нами говорят и спорят другие люди, наши двойники <…> Мы с ясностью услышали то, чего не узнали бы, если бы не было эха <…> эхо доносилось до нас новое и непривычное, точно раздавшееся из тех стран, в которых мы еще не были, но которые теперь нам суждено узнать. <…> Все дальше и слабее виднелся пожар Феодосии <…> и потом, впервые очнувшись, я заметил, что нет уже России и что мы плывем в море, окруженные синей ночной водой, под которой мелькают спины дельфинов, – и небом, которое так близко к нам, как никогда» (1, 151–152); «Под звон корабельного колокола мы ехали в Константинополь; и уже на пароходе я стал вести иное существование <…> мы плыли в морском сумраке к невидимому городу; воздушные пропасти разверзались за нами; и во влажной тишине этого путешествия изредка звонил колокол – и звук, неизменно нас сопровождавший, только звук колокола соединял в медленной стеклянной своей прозрачности огненные края и воду, отделявшие меня от России, с лепечущим и сбывающимся, с прекрасным сном о Клэр» (1, 153–154).
В романе несколько раз возникает образ «сухопутной дороги через море»; так, в отцовской сказке о путешествии на корабле герой «совершил несколько кругосветных путешествий, потом открыл новый остров, стал его правителем, построил через море железную дорогу и привез на свой остров маму прямо в вагоне» (1, 57). Как можно заметить, причиной эмиграции явилось то, что Николай вместе с бронепоездом оказался зажатым в Крыму между морем и «вооруженной Россией» (1, 140) – т. е. очутился как бы на «острове»; этот «остров» он покидает, уплывая на корабле и оставляя за собой мать и Россию; а затем, уже в Париже, еженощно «возвращается» к ним. Ср. также образ «воздушной» дороги в мечтаниях героя: «Наверное, думал я, она лежит теперь на диване <…> и дорога от Клэр ко мне стелется над землей и прямо соединяет лес, по которому я иду, с этой комнатой, с этим диваном и Клэр» (1, 88–89).
«Железный путь» приводит Николая к героине; однако событийная канва их отношений соответствует динамике экзистенциальных проблем, которые стремится разрешить Соседов. Он сам подчеркивает такое свойство собственной личности, как отсутствие «координации» между внешними событиями и внутренним миром (последний кажется ему гораздо значительнее), причем опасается даже полного разрыва этих связей и как следствие – потери человеческого облика, сумасшествия (1, 47–48). Эта коллизия «раздвоенности» (в самой фамилии Соседов явственна «бинарность») снимается как раз после соединения с Клэр, за которым следует цепь воспоминаний – уже не туманных и хаотичных, а четко оформленных, с изрядной долей самоанализа; интуитивное и рациональное начала здесь вполне уравновешены. Сам факт связного повествования, ведущегося от имени героя, есть показатель достигнутой им «цельности» и обретенной возможности самоостранения, мысленного выхода за пределы собственной личности: «Площадь Согласия вдруг предстала мне иной. Она всегда существовала во мне; я часто воображал там Клэр и себя – и туда не доходили отзвуки и образы моей прежней жизни, точно натыкаясь на незримую воздушную стену – воздушную, но столь же непреодолимую, как та огненная преграда, за которой лежали снега и звучали последние ночные сигналы России» (1, 152).
Главная героиня – в такой же мере «внешний» по отношению к Николаю, т. е. реальный фабульный персонаж, в какой и «внутренний» образ – некая перспектива («прямая» или «обратная») его личности, «фокус» судьбы героя и всего его поколения. Первая встреча с Клэр («воплощение», «материализация» героини) есть внешнее выражение определенного этапа внутреннего развития: Николай сам предчувствует «новую эпоху» в своей жизни (1, 83). Но символический женский образ включает и «эпическую» составляющую; не случайна, например, связь между двумя роковыми переменами – революцией и встречей с Клэр: «…революция произошла несколько месяцев тому назад; и, наконец, летом, в июне месяце, случилось то, к чему постепенно и медленно вела меня моя жизнь <…> я увидел Клэр (1, 83); черные чулки Клэр, ее смех и глаза соединялись в нечеловеческий и странный образ, в котором фантастическое смешивалось с настоящим и воспоминания моего детства со смутными предчувствиями катастроф» (1, 89).
«Внешнее», телесное соединение с Клэр есть вместе с тем завершенность «внутренней перспективы» Николая и завершенность эпохи, к которой он принадлежал; отдавшись героине, он в итоге «изымает» себя из мира, умирает для него; вернее сказать – попадает в замкнутый круг событий, когда обретенная цельность означает и «достигнутую» смерть. Хронотоп сжимается в точку, и потому никакого фабульного продолжения действие иметь уже не может. Произведения с «открытым» финалом в литературе нередки; но в романе Газданова мы имеем дело с обратным явлением. Это финал принципиально «закрытый» (недаром развязка совершилась уже в начале произведения): несомненна «закольцованность» событий и их, в этом смысле, «безысходность». «Продолжение» может относиться уже не к фабульной (внешней по отношению к герою), а к нарративной (внутренней) сфере; возможен лишь рассказ о совершившихся – и завершившихся – событиях (именно он и начинается с момента фабульной развязки): достигнутая «завершенность» личности и переход в «потустороннее» состояние – возможность для Николая вспомнить свою жизнь и рассказать «со стороны»; по существу, это уже авторская, писательская установка.
Показательно, что раньше, возвращаясь от Клэр домой, герой ночью «погружался в глубокий мрак; в нем шевелились какие-то дрожащие тела, иногда не успевающие воплотиться в привычные для моего глаза образы, и так и пропадающие, не воплотившись» (1, 39); и вполне закономерно, что в ночь, проведенную у Клэр, процесс «воплощения» этих образов оказывается наконец успешным. Задумываясь о смысле заглавия газдановского романа, можем сделать вывод, что слово «вечер» лишается конкретно-единичного смысла, обретая обобщенно-символическое значение: «вечер» становится как бы постоянным атрибутом Клэр; она носительница категории «вечера», символ завершенности «дня» и пути вообще. С другой стороны, учитывая значение имени героини23, имеем дело с оксюморонным сочетанием: заглавие может быть истолковано как «вечер ясности, прозрачности, просветления»24 (впрочем, сема «финальности» актуальна и в этом случае).
Подобный исход встреч смутно предчувствуется героем, и его отношение к Клэр изначально амбивалентно (притяжение-отталкивание): в романтическом духе, чувство Николая слишком сильно и идеально, чтобы воплотиться в «земные» формы, поэтому его «материализация» сродни умиранию – вспомним эпизод с блестящим снегом, который при приближении к нему становится «грязными, тающими остатками»: разочарование, сравнимое с бессмысленностью смерти (1, 51). Постоянно мечтая о Клэр, Николай во время встречи под снегом отказывается от сближения с ней (1, 93–95); и когда в кульминационный момент Клэр приближается к нему, Николай смотрит на нее «с ужасом», хотя и дает «внешнее» объяснение своей реакции: «…слишком долго этого ждал и перестал на это надеяться» (1, 45). Вспомнившиеся слова: «Во всякой любви есть печаль» (1, 46), – по-видимому, перефразированный афоризм Экклезиаста, гласящий, однако, не о любви, а о знании и мудрости (Эккл 1:18); в газдановском романе любовь, как и познание (ср. омонимичность глагола «познать»), предстает источником печали.
В этой связи важно подчеркнуть, как в «большом» контексте газдановского романа переосмыслены пушкинские строки, служащие эпиграфом: «Вся жизнь моя была залогом / Свиданья верного с тобой». Поскольку речь идет о «роковом» для героя свидании, мысль, которой проникнуты слова пушкинской героини, подвергается существенной корректировке. Татьяна имеет в виду, что вся ее предыдущая жизнь обрела смысл (= ценность) лишь после встречи с Онегиным. В романе Газданова есть сходное (внешне) суждение Николая о Клэр: «…то, к чему постепенно и медленно вела меня моя жизнь, к чему все, прожитое и понятое мной, было только испытанием и подготовкой» (1, 83); однако оказывается, что за свиданье с Клэр герой «заплатил» своей жизнью, которая при этом тоже обрела «смысл» – но в ином значении: она завершилась, обретя «законченную» (т. е. мертвую, хотя и гармоничную) форму, и потому Николай получил возможность «осмыслить» ее (т. е. вспомнить – и тем самым рассказать). Учитывая эти отличия, можно усматривать в пушкинской цитате некий зловещий намек – особенно если вспомнить подразумеваемое продолжение: «Я знаю, ты мне послан Богом, / До гроба ты хранитель мой».
Заметим, что в силу абсолютной исключительности Клэр ее имя словно лишается значения реального антропонима, обретая «мистический» призвук. Примечательны конкретные обстоятельства первой встречи: «Должно быть, я проспал несколько минут, потому что ничего не слышал. Вдруг я почувствовал холодную мягкую руку, коснувшуюся моего плеча. Чистый женский голос сказал надо мной: товарищ гимнаст, не спите, пожалуйста» (1, 83).
Клэр появляется как бы из сна, из подсознания Николая, поэтому ее возникновение носит «запрограммированный» характер, но сам герой этого еще не осознает. Мысль о связи между «явлениями» Клэр и внутренним состоянием героя звучит в романе неоднократно – например, в эпизоде их встречи, когда она возникает из «сильного снега» и музыки (ср.: «Больше всего я любил снег и музыку» [1, 90]), хотя «музыкой» в данном случае оказываются «политические» куплеты циркового клоуна (судя по ритму стихов, это может быть известная мелодия «Цыпленок жареный, цыпленок пареный…»): «…ожидание какого-то события вдруг появилось во мне – и тогда, подумав над этим, я понял, что давно уже слышу за собой шаги <…> за мной шла Клэр» (1, 93).
Показательно, что нигде в романе нет изображения лица героини – и явным диссонансом этому обстоятельству звучит фраза: «Мне очень нравились портреты Клэр – их у нее было множество, потому что она очень любила себя, – но не только то нематериальное, что любят в себе все люди, но и свое тело, голос, руки, глаза» (1, 86). «Нарциссизм» воспринимается как намек на то, что для героини ее собственная внешность не вполне привычна (словно возможна некая альтернатива); ср. также слова Николая, мечтающего о Клэр: «…хотя я хорошо знал ее наружность, но я не всегда видел ее одинаковой; она изменялась, принимала формы разных женщин» (1, 88). Коллизия личностного и символического находит отражение в непоследовательности и некоторой эксцентричности поступков Клэр: «Вся ее воплощенность и телесность <…> управляется иррациональным и бессознательным»25. Из того же ряда – подчеркнутые в образе героини экзотические, «нездешние» черты: в связи с ней герой говорит о людях, «незнакомых par excellence» (т. е. в основном, в главном), о «типе иностранца, то есть не только человека другой национальности, но и принадлежащего к другому миру, в который мне нет доступа» (1, 96). Неслучайна и национально-географическая «маргинальность»: «Может быть, мое чувство к Клэр отчасти возникало и потому, что она была француженкой и иностранкой <…> я всегда бессознательно стремился к неизвестному, в котором надеялся найти новые возможности и новые страны: мне казалось, что от соприкосновения с неизвестным вдруг воскреснет и проявится в более чистом виде все важное, все мои знания и силы и желание понять еще нечто новое; и, поняв, тем самым подчинить его себе» (1, 96–97).
Характерна постоянная непроясненность отношений героини с мужчинами. С самого начала – ее замечание о муже, уехавшем несколько месяцев назад (1, 39–40); во время встречи под снегом – фраза: «Моего мужа нет в городе» (1, 94). Показательно, что при первой встрече Николая с Клэр разговор как бы сам собою заходит о «разнице между женщиной и барышней» (1, 84). Продолжение этого разговора следует через длительный промежуток времени: «Я выходила замуж» (1, 94), – говорит Клэр, и эту двусмысленную (ибо несовершенный вид глагола вызывает впечатление «временности» состояния замужества) фразу герой интерпретирует в традиционном смысле, однозначно: «Клэр теперь замужем» (1, 94). Следующие слова героини тоже весьма неопределенны: «…рассказала, что она замужем девять месяцев, но что она не хочет портить фигуры» (1, 94), – показательно, что Николай не понимает намека на возможную беременность, а для читателя остается не вполне ясным – имели ли (имеют ли?) отношения Клэр с мужем полноценный характер, т. е. были ли они вполне «супружескими».
Но на этом неоднозначность не заканчивается; героиня говорит по-русски: «Вам придется примириться с тем, что я перестала быть девушкой и стала женщиной», – и предлагает: «Запишите по-французски <…> Claire n’était plus vierge» (1, 94). Употребление глагола в прошедшем времени несовершенного вида (n’était) вместо настоящего (n’est) создает впечатление, будто «недевственность» героини – признак временный и в настоящий момент уже несуществующий. Можно сказать, что в семейной жизни Клэр по-своему воспроизводятся странные отношения между ее родителями, которые живут отдельно друг от друга и ведут себя (по крайней мере, на людях) как знакомые, но отнюдь не как муж и жена. Любопытна, кстати, и явная «нестыковка» возрастов: о матери героини говорится, что ей 34 года (1, 87), однако самой Клэр при этом 18 лет, а, кроме того, у нее есть еще старшая сестра (1, 85): получается, что мать Клэр вышла замуж, самое позднее, лет в четырнадцать. Кстати, именно в таком возрасте сам Николай впервые встретился с Клэр. Отметим и возрастные «нестыковки», касающиеся главного героя: например, говорится, что он вполне самостоятельно ездит в гости к деду, а от него – в Кисловодск, где ходит по ресторанам и оценивающе разглядывает женщин; однако, по всем расчетам, ему в это время не может быть более 12 лет.
На Клэр явно «проецируется» образ ее горничной, постоянно озабоченной тем, что очередной ухажер отказался на ней жениться (1, 40–41): «…трагедия какого-то женского Дон-Жуана, который, однако, любит, чтобы на нем женились, в противоположность Дон-Жуану литературному, относившемуся к браку отрицательно» (1, 41). Как и с Дон-Жуаном, с Клэр связан мотив постоянного соблазна: им прямо открывается рассказ о вечерах, которые Николай проводит у героини (1, 41–45). Атмосфера соблазна (еще бессознательного) возникает с самого начала их знакомства, когда Клэр 18 лет (1, 86); а встреча под снегом – уже прямая попытка соблазнить героя (1, 94–95).
Соблазнительная и вместе с тем опасная героиня газдановского романа воплощает женское начало в его роковой двойственности. Исследователи подчеркивают связь образа Клэр с символистской «Вечной Женственностью»26, однако уместнее, пожалуй, говорить о «вечной девственности» – без какой бы то ни было связи с «богородичными» мотивами, поскольку в Клэр (в отличие, скажем, от матери героя) нет животворящего начала: скорее, она связана с архетипом «мертвой невесты» (вроде Панночки из гоголевского «Вия»). Недаром предвестием грядущей эмиграции и открывающейся дороги к Клэр оказывается для Николая русалка, приснившаяся его спутнику Аркадию Савину (это своеобразный «двойник» героя – «единственный человек, который походил на людей, живших в моем воображении» [1, 137]): «…она смеялась и била хвостом и плыла рядом с ним, прижимаясь к нему своим холодным телом, и чешуя ее ослепительно блестела. Я вспомнил об этом сне Аркадия, когда поздней ночью, в Севастополе, на осенних волнах Черного моря увидел моторную лодку, которая быстро шла к громадному английскому крейсеру, стоявшему на рейде; она поднимала за собой сверкающий гребень волны, и мне показалось вдруг, что сквозь эту пену доносится до меня едва слышный смех и нестерпимый блеск проступает через темную синеву» (1, 139).
Показательно и то, что после сближения героев интерьер комнаты обретает «подводный» облик: «волны» печали, проплывающие «над белым (затем оно названо бледным. – Е. Я.) телом Клэр» (напоминающим тело утопленницы); доминирующий сине-голубой цвет; волнообразный узор на бордюре обоев (1, 45–46). Вместе с тем, погружение в «воду» – признак приобщения героя к «первоначалу»; недаром темно-синий цвет назван «выражением какой-то постигнутой тайны»27 (1, 45); ср. также слова Николая в контексте рассуждений о смерти: «…мне всю жизнь казалось, – даже когда я был ребенком, – что я знаю какую-то тайну, которой не знают другие; <…> Очень редко, в самые напряженные минуты моей жизни, я испытывал какое-то мгновенное, почти физическое перерождение, и тогда приближался к своему слепому знанию, к неверному постижению чудесного» (1, 77).
С образом потустороннего мира связаны «онирические» мотивы газдановского романа. Интересно, однако, что в грезах героя ему кажется, будто это он снится Клэр – точно так же, как она снится ему28: в каком-то смысле весь реальный мир представляется ее сном: «…я слышу слабый голос няни, доходящий до меня будто с другого берега синей невидимой реки: <…> Только вижу я милова / В темной ночке да в сладком сне. <…> Да, – говорю я себе, точно проснувшись и прозрев, – да, это Клэр. Но что “это”? − опять думаю я с беспокойством, – и вижу, что это все: и няня, и петух, и лебедь, и Дон-Кихот, и я, и синяя река, которая течет в комнате, это все – вещи, окружающие Клэр. Она лежит на диване <…> Под ней коричневый бархат, над ней лепной потолок, вокруг мы с лебедем, Дон-Кихотом и Ледой томимся в тех формах, которые нам суждены навсегда; вокруг нас громоздятся дома, обступающие гостиницу Клэр, вокруг нас город, за городом поля и леса, за полями и лесами – Россия; за Россией вверху, высоко в небе, летит, не шевелясь, опрокинутый океан, зимние, арктические воды пространства» (1, 89–90).
Выше мы говорили, что Клэр – проекция личности героя, но равно справедливо утверждение, что Николай (и вся окружающая действительность) – лишь «эманация» героини.
«Всемогущество» Клэр подчеркивают и реминисценции из Андерсена, устанавливающие ее связь с мотивом холода: героиня ассоциируется со Снежной Королевой – ср. «очень белые руки, литое, твердое тело» (1, 84): «…отдаваясь власти сна или грусти или другого чувства, как бы сильно оно ни было, она не переставала оставаться собой; и казалось, самые могучие потрясения не могли ни в чем изменить это такое законченное тело, не могли разрушить это последнее, непобедимое очарование, которое заставило меня потратить десять лет моей жизни на поиски Клэр и не забывать о ней нигде и никогда» (1, 46).
Сам герой, естественно, отождествляется с заколдованным мальчиком Каем. Встреча десятилетней давности происходит зимой, под идущим снегом – после тщетных, казалось, надежд героя увидеть Клэр «в сказочном Шварцвальде» (1, 92–95). Весьма показательно и впечатление Николая в сцене их сближения, когда Клэр обнимает его: «…ледяной запах мороженого, которое она ела в кафе, вдруг почему-то необыкновенно поразил меня» (1, 45); ср. в «Снежной Королеве»: «Поцелуй ее был холоднее льда, он пронизал мальчика насквозь, дошел до самого сердца <…> На мгновение Каю показалось, будто он сейчас умрет, но вдруг ему стало хорошо»29.
Важно подчеркнуть: через мотив холода (снега, зимы) Клэр оказывается сближена не только с «материнским» образом России, но и с самой матерью героя. Не случайно охватившее мальчика при похоронах отца «ледяное чувство смерти» сочетается с ощущением «холодной руки» матери (1, 58): «Она была очень спокойной женщиной, несколько холодной в обращении <…> С самого раннего моего детства я помню <…> холодок, который от нее исходил <…> говорила с обычной своей холодностью и равнодушно-презрительными интонациями» (1, 62–63); «Медлительность движений и ответов <…> после смерти отца безраздельно воцарилась у нас в доме, точно заколдованном холодным волшебством матери» (1, 70); «Эта спокойная женщина, похожая на воплотившуюся картину и как будто сохранившая в себе ее чудесную неподвижность» (1, 63); «…холодная и спокойная жизнь <…> в моем представлении неразрывно связана с хрустящим снегом, тишиной в комнатах, мягкими коврами и глубочайшими диванами, стоявшими в гостиной» (1, 82).
В подтексте романа звучит намек на глубинную связь матери героя со смертью, едва ли не на смертоносность: «Бессознательное, холодное равнодушие моей матери точно отразило в себе чью-то последнюю неподвижность, и жадная память сестер вбирала в себя все так быстро потому, что где-то в отдаленном их предчувствии смерть уже существовала» (1, 77). Стечение роковых обстоятельств – смерть старшей дочери, затем мужа, затем младшей дочери (1, 65) – в таком контексте кажется неслучайным; и показательно, что, уезжая на войну, т. е. покидая мать, герой на ее протестующую фразу: «А если мне привезут твой труп?» – отвечает: «Нет, я знаю, меня не убьют» (1, 120).
Вспоминая о мотиве «вечной девственности» Клэр, можно добавить, что сам Николай вплоть до «рокового» вечера, судя по всему, пребывает девственником: на эту мысль наводит, в частности, французская песенка, которая может быть воспринята как намек на отсутствие женщины у героя30. Клэр иронически намекает, что именно в этой неполноценности состоит причина его суровости в отношении французского юмора (1, 44). Характерны слова Николая, что в его жизни «не было отрочества» и он сразу после детства стал взрослым – вернее, «всегда стремился, вопреки очевидности, казаться взрослым» (1, 82). На самом деле роман повествует о затянувшемся «отрочестве» героя, которое после вечера у Клэр завершается наступлением «старости»; ср. в этой связи представление Коли об отце: «…этот сильный человек только притворяется взрослым, а, в сущности, он такой же, как и я, мой ровесник» (1, 62); получается, что смерть настигла отца в «восьмилетнем» возрасте – ведь именно столько лет было в тот момент его сыну (1, 50).
Сочетание Николай – Клэр, в сущности, типологически повторяет отношения безымянных родителей героя: вечно спешащий, любящий пожары и охоту (1, 53) «мальчик»-отец – и «холодная» мать31. Уже на первой странице «Вечера у Клэр» герой, регулярно опаздывающий на поезд метро (1, 39), фактически отождествлен с отцом, который всю жизнь постоянно опаздывал, в том числе и к поезду (1, 52). С постоянными опозданиями отца может быть сопоставлено и подчеркнутое неумение Николая синхронно осмыслять повседневную реальность, «адаптируя» ее к собственному внутреннему миру: он как бы «опаздывает» за жизнью, оставаясь «посторонним» по отношению к мимоидущим событиям. Отец героя перестает опаздывать, поскольку умирает; по аналогии, и для Николая серия его «явных» опозданий может быть истолкована как знак приближающейся смерти: она наступит, когда он соединится с Клэр и опаздывать станет более некуда.
Отношения героя со смертью – самостоятельный лейтмотив романа: «Смерть никогда не была далека от меня, и пропасти, в которые повергало меня воображение, казались ее владениями» (1, 77). Уже один из первых рецензентов романа М. Слоним подчеркивал: «Герой “Вечера у Клэр” обладает как бы двойным бытием, он колеблется между мнимым и подлинным в жизни, ощущает смерть и умирание, и эта тревога духа оживляет все почти воспоминания и рассуждения автора»32. Первое детское воспоминание Николая – воспоминание о металлическом музыкальном звоне пилы, завораживающем и смертоносном: зачарованный этим звоном, он едва не вывалился из окна – и успел почувствовать приблизившуюся смерть в виде «холодного воздуха» (1, 49); С. Кабалоти интерпретирует данный эпизод в духе хайдеггеровского определения человека как бытия-к-смерти33. «Опасные» свойства звона проявлены и в подчеркнутой нелюбви отца к колоколам (1, 54) – во время похорон «звонили колокола, которых он так не любил» (1, 58). Звоном сопровождается и сцена, когда Николай спрашивает дядю Виталия о смысле жизни и тот с тоской говорит о бессмысленности существования и неизбежности смерти: «Воздух был очень чистый и свежий; и опять, как всегда, в тишине до меня явственно доносился далекий и протяжный звон, замирающий наверху» (1, 117). Финальное путешествие на корабле под звон колокола (1, 153–154) – прямая аналогия с эпизодом похорон отца и, как уже отмечалось, несет явные признаки «перехода в иной мир». В этом мире Николая ждет долгожданное свидание; завершившись в комнате Клэр, «железный путь» приведет героя к самому себе.
3
Приступая к анализу мотива «железного пути» у Булгакова, напомним сказанное в начале статьи: один из основных принципов, обусловливающих структуру булгаковского художественного мира, – идея «тождества противоположностей»; поэтому персонажи-антагонисты здесь чаще всего «равноценны» и «равносильны» – отношения между ними напоминают модель гражданской войны, в которой одержать «истинную» победу невозможно, ибо воюющие – части единого национального «организма», принадлежат к одному народу. Подобной логикой обусловлены у Булгакова в том числе образы поезда и трамвая: эти «транспортные средства» явно символичны и на первый взгляд кажутся некими дьявольскими орудиями, инструментами зла; однако логика фабульных событий или подтекстных связей формирует противоположную оценку, внося в эти образы «положительное» или, по крайней мере, «нейтральное» начало.
В начальных эпизодах «Белой гвардии» встречаем выразительный образ огненно-стального бронепоезда, рвущегося сквозь ночь и вьюгу. «Серый, как жаба» (1, 200), он напоминает гигантскую рептилию и тем самым обретает «инфернальные» черты (ср., например, демонических «гадов» в повести «Роковые яйца»); существенно, что он окрашен в серый цвет, который в целом ряде булгаковских произведений предстает как «цвет судьбы»34. «Дико воющий» (1, 200) бронепоезд сопровождает состав, который увозит немцев из Города в Германию, и его уход – знак того, что путь для «антихриста» Петлюры с его сатанинскими полчищами открыт и Город обречен. Однако в финале петлюровцы бегут из Города – а с севера к нему приближается точно такой же бронепоезд, уже не германский, а советский, но столь же зловещий с виду: «Наглухо, до колес, были зажаты площадки в серую броню. Паровоз чернел многогранной глыбой, из брюха его вываливался огненный плат, разлегаясь на рельсах, и со стороны казалось, что утроба паровоза набита раскаленными углями» (1, 424). Эта адская машина, носящая имя «Пролетарий», привозит в Город очередных «аггелов»; однако читатель получает возможность увидеть «воочию» одного из них (это упоминавшийся безымянный часовой) – и убедиться: «дьявольского» в его облике не больше, чем «ангельского»35.
Во Втором сне пьесы «Бег», действие которого происходит «на неизвестной и большой станции где-то в северной части Крыма» (3, 227), «за сценой» присутствует зловещий бронепоезд «Офицер» (это имя «негативно» тождественно названию «Пролетарий»): «Пролетел далекий вой бронепоезда. <...> Раздается залп с бронепоезда. Он настолько тяжел, этот залп, что звука почти не слышно, но электричество мгновенно гаснет в зале станции, и обледенелые окна обрушиваются» (3, 237). Но даже это «дьявольское» средство неспособно помочь «Христовому именитому воинству» (3, 233) под белым знаменем. По пародийной логике событий оказывается, что красные не нуждаются не только в «железном», но и вообще ни в каком «обычном» пути – ибо обрели способность передвигаться «по морю, яко посуху» (ср. в «Вечере у Клэр» сказочный образ моста или железной дороги над морем) и вторгаются в Крым, перейдя через внезапно замерзший Сиваш. Явно библейского подтекста исполнены возмущенные слова Хлудова: «Ваше высокопреосвященство, простите, что я вас перебиваю, но вы напрасно беспокоите господа бога. Он уже явно и давно от нас отступился. Ведь это что ж такое? Никогда не бывало, а теперь воду из Сиваша угнало, и большевики как по паркету прошли. Георгий-то Победоносец смеется!» (3, 233). Подразумеваются слова из книги Исход: «Сделал море сушею; и расступились воды» (Исх. 14:21); однако пародийный эффект основан на том, что Яхве «заменен» Георгием Победоносцем и «воды расступаются» отнюдь не перед преследуемыми (как в Библии), а перед преследующими – небеса помогают не «избранному народу» (т. е. белым), а их «гонителям» – большевикам.
С учетом «инфернальной» природы поездов в булгаковских произведениях по-особому начинает звучать в «Собачьем сердце» и фамилия Чугункин; если воспринимать ее как «наследственную» (подобным образом обыгрывается, например, фамилия Шариков [2, 172]), то перед нами явно «железнодорожный» персонаж: «чугунка» – распространенное в XIX в. именование железной дороги. В образе Чугункина «железнодорожные» аллюзии сочетаются с мотивом «серого» (ср. бронепоезд в романе «Белая гвардия»): люмпенизированный персонаж предстает в облике «волка-оборотня» – и при «соединении» пса Шарика и уголовника Чугункина гуманное «собачье» начало едва не оказывается подавлено демонически-бесчеловечной «волчьей» сущностью36. Вспомним, что именно появление этого персонажа в квартире Преображенского (сначала Чугункин является не «целиком», а в виде отдельных органов, но затем, будучи «привит» на тело собаки, «воскресает» в своем исконном облике – как внешнем, так и внутреннем) приводит к тому, что в бывшем Калабуховском доме возникает ситуация, вполне сравнимая с гражданской войной в миниатюре; еще интереснее, что ведущие ее персонажи-антиподы (Преображенский и Швондер) с равным правом могут быть названы «отцами» Шарикова-Чугункина; «гражданская война» в квартире комично переплетена с конфликтом «отцов» и «детей»37.
Мотив «железного пути» воплощен Булгаковым и через образ трамвая. Например, в пьесе «Адам и Ева», создавая картину погибшей цивилизации, писатель вводит такую деталь: «В магазине стоит трамвай, вошедший в магазин. Мертвая вагоновожатая» (3, 344); это как бы гигантский памятник – символ катастрофы. Когда все люди в Ленинграде погибли, рассказывает Ева, «трамваи еще час ходили, давили друг друга» (3, 349). «Битва трамваев» своеобразно соответствует ситуации, когда «война стала гражданской во всем мире» (3, 363): «Капиталистический мир напоен ненавистью к социалистическому миру, а социалистический мир напоен ненавистью к капиталистическому <...> в мире есть люди с другой идеей, и идея их заключается в том, чтобы вас с вашей идеей уничтожить» (3, 333–334).
В романе «Мастер и Маргарита» трамвай предстает вначале сатанинским инструментом, некоей электрифицированной самодвижущейся гильотиной, появляющейся «по заказу» Воланда. Однако не меньшую (даже бóльшую) роль, чем трамвай, играют в судьбе Берлиоза две обычных русских женщины: одна – комсомолка и красавица вагоновожатая (5, 16, 48), другая – сухонького сложения коммунальная скандалистка по прозвищу «Чума» (5, 286), являющаяся, кстати, «тезкой» одного из популярнейших в Москве трамвайных маршрутов – «Аннушка»38. Учитывая, что «отрезание» головы у Берлиоза пародийно отождествляет его с Иоанном Предтечей39, можем соотнести всю «тройку» (двух женщин вкупе с трамваем) с евангельскими персонажами, повинными в смерти Иоанна Крестителя: Иродиадой, ее дочерью и палачом, отсекшим ему голову в темнице (Мф. 14:6–11). На первый взгляд аналогии выглядят сугубо пародийными и комичными – ведь председатель Массолита, отрицая бытие Божие, тем самым фактически призывает дьявола, выступая «предтечей» по отношению именно к нему. Но, с другой стороны, в амбивалентном мире булгаковского романа оказывается, что Берлиоз, отрицавший существование Иисуса, по-своему «предшествует» и Иешуа, образ которого возник в романе Мастера; Иешуа с неменьшим правом может быть охарактеризован если не как «антихрист», то как «анти-Христос»: ведь его «истинный» облик (угаданный Мастером) радикально противостоит евангельскому образу Иисуса; по существу, Мастер выполнил ту задачу, которую Берлиоз пытался поставить перед Бездомным: показал «нелепые слухи» (5, 11), сопутствовавшие Иешуа как при жизни, так и после смерти.
Симптоматично, что и Мастер в определенный период своей жизни намеревался «повторить» – по крайней мере, мысленно – судьбу Берлиоза: «Идти мне было некуда, и проще всего, конечно, было бы броситься под трамвай на той улице, в которую выходил мой переулок. Издали я видел эти наполненные светом, обледеневшие ящики и слышал их омерзительный скрежет на морозе» (5, 146)40. Хотя в физическом смысле самоубийства не происходит и голова остается на плечах героя, однако совершается самоубийство «гражданское»: Мастер сам отправляется в клинику Стравинского, вычеркивая себя из членов общества и признавая себя сумасшедшим (буквально «потерявшим голову»). Поэтому можно сказать, что мотив страданий Берлиоза, помимо обличительно-сатирического колорита, предстает в более «серьезном» свете, обретает более глубокие подтекстные смыслы; соответственно, усложняется и смысл образа трамвая как «орудия казни».
***
Анализ текстов Газданова и Булгакова не только подтверждает тезис о важности мотива «железного пути» в их творчестве, но и убеждает, что между двумя писателями существует немало «точек соприкосновения», причем в настоящей работе далеко не исчерпаны возможные аспекты сравнения. Так, центральный женский персонаж романа Газданова может быть соотнесен с рядом булгаковских героинь, которые связаны с архетипом «мертвой невесты» (например, в романе «Белая гвардия», рассказе «Вьюга» и др.). Интересным представляется изучение музыкально-лейтмотивной структуры первого газдановского романа в связи с музыкальными аллюзиями у Булгакова. Полезным было бы исследование поэтики сна и функционирования онирических мотивов в произведениях двух писателей (ср. хотя бы подзаголовок пьесы «Бег»: «Восемь снов»). Допустимо сопоставительное рассмотрение в аспекте автометаописания и анализа личности художника: оба автора склонны изображать творческий процесс как внутреннее созерцание, «вспоминание»; слова Николая Соседова: «Я привыкал жить в прошедшей действительности, восстановленной моим воображением» (1, 50), – вызывают в памяти известный булгаковский образ «коробочки», которую наблюдает Сергей Максудов (4, 434–435). Реализованная в подтексте газдановского романа мысль о «завершенности», «смерти» героя как предпосылке к писательскому творчеству позволяет соотнести сюжет «Вечера у Клэр» с принципиально важным у Булгакова мотивом «записок покойника» (ср. одноименный роман или рассказ «Морфий»).
Газданов и мировая культура. Калининград, 2000.
![]()
1![]() Диенеш Л. Гайто Газданов: Жизнь и творчество. Владикавказ 1995. С. 114.
Диенеш Л. Гайто Газданов: Жизнь и творчество. Владикавказ 1995. С. 114.
2![]() Булгаков М. А. Собр. соч.: В 5 т. М., 1989–1990. Т. 5. С. 391; далее цитаты по этому изданию – в тексте, с указанием тома и страницы.
Булгаков М. А. Собр. соч.: В 5 т. М., 1989–1990. Т. 5. С. 391; далее цитаты по этому изданию – в тексте, с указанием тома и страницы.
3![]() Впервые опубликован в 1925 г. в Москве под названием «Девушка с гор».
Впервые опубликован в 1925 г. в Москве под названием «Девушка с гор».
4![]() Кончаковский А. Библиотека Михаила Булгакова: Реконструкция. Киев, 1997. С. 81.
Кончаковский А. Библиотека Михаила Булгакова: Реконструкция. Киев, 1997. С. 81.
5![]() Булгаков М. А. Собр. соч.: В 8 т. СПб., 2002. Т. 4. С. 147.
Булгаков М. А. Собр. соч.: В 8 т. СПб., 2002. Т. 4. С. 147.
6![]() Сам М. Булгаков тоже служил в Добровольческой армии, и перспектива эмиграции для него тоже была вполне реальна; хотя и сегодня не вполне ясно – по собственной воле будущий писатель летом 1921 г. остался на родине или же его принудили к этому непреодолимые обстоятельства – вроде тех, на которые намекает герой «Записок на манжетах» (1, 489–490).
Сам М. Булгаков тоже служил в Добровольческой армии, и перспектива эмиграции для него тоже была вполне реальна; хотя и сегодня не вполне ясно – по собственной воле будущий писатель летом 1921 г. остался на родине или же его принудили к этому непреодолимые обстоятельства – вроде тех, на которые намекает герой «Записок на манжетах» (1, 489–490).
7![]() Газданов Г. И. Собр. соч.: В 3 т. М., 1999. Т. 1. С. 120; далее цитаты по этому изданию с указанием тома и страницы.
Газданов Г. И. Собр. соч.: В 3 т. М., 1999. Т. 1. С. 120; далее цитаты по этому изданию с указанием тома и страницы.
9![]() Переписка М. А. Булгакова с И. А. Булгаковым: 1926–1934 // Творчество Михаила Булгакова: Исследования. Материалы. Библиография. СПб., 1995. Кн. 3. С. 189–204.
Переписка М. А. Булгакова с И. А. Булгаковым: 1926–1934 // Творчество Михаила Булгакова: Исследования. Материалы. Библиография. СПб., 1995. Кн. 3. С. 189–204.
10![]() Янгиров Р. Русская эмиграция о романе «Белая гвардия»: 1920–1930-е гг. // Михаил Булгаков на исходе XX века. СПб., 1999. С. 52.
Янгиров Р. Русская эмиграция о романе «Белая гвардия»: 1920–1930-е гг. // Михаил Булгаков на исходе XX века. СПб., 1999. С. 52.
11![]() Булгаков М. А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 219–220.
Булгаков М. А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 219–220.
12![]() Внимание Газданова могли привлечь и несколько публикаций в газете «Дни» в январе–феврале 1928 г.: вскоре после выхода первого тома булгаковского романа разразился скандал по поводу авторских прав на «Белую гвардию» и «Дни Турбиных», которые были присвоены З. Каганским (Булгаков М. А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 225–226).
Внимание Газданова могли привлечь и несколько публикаций в газете «Дни» в январе–феврале 1928 г.: вскоре после выхода первого тома булгаковского романа разразился скандал по поводу авторских прав на «Белую гвардию» и «Дни Турбиных», которые были присвоены З. Каганским (Булгаков М. А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 225–226).
13![]() Каждую ночь герой Газданова по пути от Клэр пересекает бульвар Распай – где в то время жил Владимир Биншток, доверенное лицо Булгакова по печатанию «Белой гвардии»; его адрес – «Boulevard Raspail, 236» (5, 438); по странному совпадению, название издательства, выпустившего булгаковский роман, «Concorde» (согласие), перекликается с символическим названием площади в «Вечере у Клэр». Кстати, Николай Булгаков, приехав в Париж, побывал у Бинштока, о чем сообщил брату Михаилй: в ответном письме от 24 августа 1929 г. тот благодарит его за это посещение (5, 433).
Каждую ночь герой Газданова по пути от Клэр пересекает бульвар Распай – где в то время жил Владимир Биншток, доверенное лицо Булгакова по печатанию «Белой гвардии»; его адрес – «Boulevard Raspail, 236» (5, 438); по странному совпадению, название издательства, выпустившего булгаковский роман, «Concorde» (согласие), перекликается с символическим названием площади в «Вечере у Клэр». Кстати, Николай Булгаков, приехав в Париж, побывал у Бинштока, о чем сообщил брату Михаилй: в ответном письме от 24 августа 1929 г. тот благодарит его за это посещение (5, 433).
14![]() Янгиров Р. Указ. соч. С. 52, 62–64, 69–71.
Янгиров Р. Указ. соч. С. 52, 62–64, 69–71.
15![]() Вспомним советы, которые дает Николаю Соседову дядя Виталий: «…никогда не становись убежденным человеком, не делай выводов, не рассуждай и старайся быть как можно более простым» (1, 116); подобные высказывания, в сочетании с идеей «исторического фатализма», которую проповедует этот персонаж, напоминают взгляды Л. Толстого. В произведениях Булгакова толстовские реминисценции также имеют важнейшее значение: уже Осоргин говорил, например, о сходстве Николки Турбина с Петей Ростовым (см.: Янгиров Р. Указ. соч. С. 70). Касаясь вопроса об общих литературных «ориентирах», можно указать на испытанное обоими писателями влияние Бунина: Г. Адамович сопоставлял прозу Газданова с «Жизнью Арсеньева» (Адамович Г. Литературная неделя. «Вечер у Клэр» Г. Газданова // Иллюстрированная Россия. 1930. 8 марта). Однако думается, что «морские» мотивы «Вечера у Клэр» (в сочетании с темой эмиграции) позволяют сблизить роман (особенно его финал) также с бунинским рассказом 1921 г. «Конец» (опубликован в 1923 г. под названием «Гибель»); о возможных «отголосках» этого рассказа в произведениях Булгакова и сходстве «морских» мотивов в творчестве двух писателей: Яблоков Е. А. Художественный мир Михаила Булгакова. М., 2001. С. 198–199.
Вспомним советы, которые дает Николаю Соседову дядя Виталий: «…никогда не становись убежденным человеком, не делай выводов, не рассуждай и старайся быть как можно более простым» (1, 116); подобные высказывания, в сочетании с идеей «исторического фатализма», которую проповедует этот персонаж, напоминают взгляды Л. Толстого. В произведениях Булгакова толстовские реминисценции также имеют важнейшее значение: уже Осоргин говорил, например, о сходстве Николки Турбина с Петей Ростовым (см.: Янгиров Р. Указ. соч. С. 70). Касаясь вопроса об общих литературных «ориентирах», можно указать на испытанное обоими писателями влияние Бунина: Г. Адамович сопоставлял прозу Газданова с «Жизнью Арсеньева» (Адамович Г. Литературная неделя. «Вечер у Клэр» Г. Газданова // Иллюстрированная Россия. 1930. 8 марта). Однако думается, что «морские» мотивы «Вечера у Клэр» (в сочетании с темой эмиграции) позволяют сблизить роман (особенно его финал) также с бунинским рассказом 1921 г. «Конец» (опубликован в 1923 г. под названием «Гибель»); о возможных «отголосках» этого рассказа в произведениях Булгакова и сходстве «морских» мотивов в творчестве двух писателей: Яблоков Е. А. Художественный мир Михаила Булгакова. М., 2001. С. 198–199.
16![]() Цит. по: Булгаков М. А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 260.
Цит. по: Булгаков М. А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 260.
17![]() Чудакова М. О. Весной семнадцатого в Киеве // Юность. 1991. № 5. С. 75.
Чудакова М. О. Весной семнадцатого в Киеве // Юность. 1991. № 5. С. 75.
18![]() Подробнее: Яблоков Е. А. Текст и подтекст в рассказах М. А. Булгакова: «Записки юного врача». Тверь, 2002. С. 73.
Подробнее: Яблоков Е. А. Текст и подтекст в рассказах М. А. Булгакова: «Записки юного врача». Тверь, 2002. С. 73.
19![]() Ср. в стихотворении А. Блока «На железной дороге»: «Тоска дорожная, железная / Свистела, сердце разрывая…»
Ср. в стихотворении А. Блока «На железной дороге»: «Тоска дорожная, железная / Свистела, сердце разрывая…»
20![]() Уже в романе «Анна Каренина» «железный путь» играет «какую-то зловещую, мистическую роль» (Эйхенбаум Б. Лев Толстой: Семидесятые годы. Л., 1974. С. 188).
Уже в романе «Анна Каренина» «железный путь» играет «какую-то зловещую, мистическую роль» (Эйхенбаум Б. Лев Толстой: Семидесятые годы. Л., 1974. С. 188).
21![]() Между прочим, название другого бронепоезда – «Ярослав Мудрый» (1, 148), поименованного в честь сына крестителя Руси вызывает киевские ассоциации и тоже воспринимается как булгаковский «сигнал».
Между прочим, название другого бронепоезда – «Ярослав Мудрый» (1, 148), поименованного в честь сына крестителя Руси вызывает киевские ассоциации и тоже воспринимается как булгаковский «сигнал».
22![]() Ср. библейский мотив: «Приидите и воззрите на дела Бога, страшного в делах над сынами человеческими. Он превратил море в сушу; через реку перешли стопами; там веселились мы о Нем. <…> Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу» (Пс. 45:5–6, 12). С. Кабалоти рассматривает финальные эпизоды газдановского романа в духе возвращения к «чистым первосущностям»: в результате апокалиптической исторической катастрофы «сложная реальность словно распадается на архаические стихийные элементы – воздух <...>, огонь и воду»; выходя из времени в вечность, герой-рассказчик остается наедине с самим собой (Кабалоти С. Поэтика прозы Гайто Газданова 20-30-х годов. СПб., 1998. С. 196–197).
Ср. библейский мотив: «Приидите и воззрите на дела Бога, страшного в делах над сынами человеческими. Он превратил море в сушу; через реку перешли стопами; там веселились мы о Нем. <…> Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу» (Пс. 45:5–6, 12). С. Кабалоти рассматривает финальные эпизоды газдановского романа в духе возвращения к «чистым первосущностям»: в результате апокалиптической исторической катастрофы «сложная реальность словно распадается на архаические стихийные элементы – воздух <...>, огонь и воду»; выходя из времени в вечность, герой-рассказчик остается наедине с самим собой (Кабалоти С. Поэтика прозы Гайто Газданова 20-30-х годов. СПб., 1998. С. 196–197).
23![]() Возможно, имя Клэр содержит и «акмеистические» коннотации. В 1923 г. в Париже возродился «Цех поэтов» (Г. Адамович, Г. Иванов, И. Одоевцева, Н. Оцуп), и для Газданова, как раз в этом году приехавшего в Париж, это объединение могло оказаться одним из серьезных литературных впечатлений. В 1926–1927 гг. Газданов посещал ежемесячные собрания, организованные редколлегией журнала «Звено» во главе с Адамовичем (Диенеш Л. Указ. соч. С. 98–99).
Возможно, имя Клэр содержит и «акмеистические» коннотации. В 1923 г. в Париже возродился «Цех поэтов» (Г. Адамович, Г. Иванов, И. Одоевцева, Н. Оцуп), и для Газданова, как раз в этом году приехавшего в Париж, это объединение могло оказаться одним из серьезных литературных впечатлений. В 1926–1927 гг. Газданов посещал ежемесячные собрания, организованные редколлегией журнала «Звено» во главе с Адамовичем (Диенеш Л. Указ. соч. С. 98–99).
24![]() Однако, перефразируя заглавие программной статьи М. Кузмина, вряд ли можно считать, что, обретя Клэр, газдановский герой достиг тем самым «прекрасной ясности»: «прекрасное» и «ужасное» пребывают здесь в равновесном состоянии.
Однако, перефразируя заглавие программной статьи М. Кузмина, вряд ли можно считать, что, обретя Клэр, газдановский герой достиг тем самым «прекрасной ясности»: «прекрасное» и «ужасное» пребывают здесь в равновесном состоянии.
25![]() Кабалоти С. Указ. соч. С. 190.
Кабалоти С. Указ. соч. С. 190.
27![]() Мотив синего цвета в «Вечере у Клэр» заставляет вспомнить стихотворение грузинского поэта-романтика Н. Бараташвили «Цвет небесный, синий цвет» (пер. Б. Пастернака): это мистический цвет любви и смерти, объединяющий начала и концы. Возможно, эта ассоциация не случайна и должна рассматриваться как необходимая составляющая «кавказского» подтекста в романе Газданова; столь же важными представляются и лермонтовские реминисценции: так, эпизоды «Вечера у Клэр», где герой рассказывает о своих поездках в Кисловодск – «единственный провинциальный город со столичными привычками и столичной внешностью», явно напоминают «Княжну Мери», особенно с учетом психологической «раздвоенности» героев Лермонтова и Газданова. О структурном сходстве «Вечера у Клэр» и «Героя нашего времени»: Кабалоти С. Указ. соч. С. 147.
Мотив синего цвета в «Вечере у Клэр» заставляет вспомнить стихотворение грузинского поэта-романтика Н. Бараташвили «Цвет небесный, синий цвет» (пер. Б. Пастернака): это мистический цвет любви и смерти, объединяющий начала и концы. Возможно, эта ассоциация не случайна и должна рассматриваться как необходимая составляющая «кавказского» подтекста в романе Газданова; столь же важными представляются и лермонтовские реминисценции: так, эпизоды «Вечера у Клэр», где герой рассказывает о своих поездках в Кисловодск – «единственный провинциальный город со столичными привычками и столичной внешностью», явно напоминают «Княжну Мери», особенно с учетом психологической «раздвоенности» героев Лермонтова и Газданова. О структурном сходстве «Вечера у Клэр» и «Героя нашего времени»: Кабалоти С. Указ. соч. С. 147.
28![]() Возможно, это тоже лермонтовская реминисценция – ср. стихотворение «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»): раненому герою в бреду снится «юная жена», которая во сне видит его мертвым.
Возможно, это тоже лермонтовская реминисценция – ср. стихотворение «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»): раненому герою в бреду снится «юная жена», которая во сне видит его мертвым.
29![]() Андерсен Г. Х. Сказки и истории. М., 1955. С. 193.
Андерсен Г. Х. Сказки и истории. М., 1955. С. 193.
30![]() Автор романа в примечании говорит о «непереводимости» куплета песенки, однако его иносказательный смысл вполне понятен: слова «une chemise rose» («розовая рубашка») могут быть переведены как «розовая оболочка» или как «оболочка-роза» – вместилище «маленькой женщины» («avec une petite femme dedans»), т. е. средоточие женского начала; мотив имеет прямое отношение к сакрально-профанной амбивалентности Клэр. Двойственность концепта розы, соединяющего христиански-«возвышенную» и язычески-«телесную» семантику, традиционно служила основой для гривуазных аллегорий; в истории русской литературы яркие примеры подобного рода находим в творчестве Пушкина, например, стихотворения «Монах» и «Роза», поэмы «Тень Баркова» и «Гавриилиада» (см.: Пеньковский А. Б. Нина: Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом освещении. М., 1999. С. 411–412).
Автор романа в примечании говорит о «непереводимости» куплета песенки, однако его иносказательный смысл вполне понятен: слова «une chemise rose» («розовая рубашка») могут быть переведены как «розовая оболочка» или как «оболочка-роза» – вместилище «маленькой женщины» («avec une petite femme dedans»), т. е. средоточие женского начала; мотив имеет прямое отношение к сакрально-профанной амбивалентности Клэр. Двойственность концепта розы, соединяющего христиански-«возвышенную» и язычески-«телесную» семантику, традиционно служила основой для гривуазных аллегорий; в истории русской литературы яркие примеры подобного рода находим в творчестве Пушкина, например, стихотворения «Монах» и «Роза», поэмы «Тень Баркова» и «Гавриилиада» (см.: Пеньковский А. Б. Нина: Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом освещении. М., 1999. С. 411–412).
31![]() Кабалоти С. Указ. соч. С. 167, 181–182.
Кабалоти С. Указ. соч. С. 167, 181–182.
32![]() Слоним М. Два Маяковских. – Роман Газданова // Воля России. 1930. № 5–6. С. 456; см. также: Кабалоти С. Указ. соч. С. 163–164.
Слоним М. Два Маяковских. – Роман Газданова // Воля России. 1930. № 5–6. С. 456; см. также: Кабалоти С. Указ. соч. С. 163–164.
33![]() Кабалоти С. Указ. соч. С. 177.
Кабалоти С. Указ. соч. С. 177.
34![]() Яблоков Е. А. Художественный мир Михаила Булгакова. С. 160.
Яблоков Е. А. Художественный мир Михаила Булгакова. С. 160.
35![]() Бронепоезд из романа «Белая гвардия», словно вторгшийся в эпоху нэпа знак гражданской войны, возникает в булгаковском очерке «Путевые заметки. Скорый № 7 Москва – Одесса» (весна 1923 г.): здесь перед рассказчиком, подъезжающим к Киеву, «мелькает смутная стертая надпись на паровозе – “Пролетар...”» (2, 301).
Бронепоезд из романа «Белая гвардия», словно вторгшийся в эпоху нэпа знак гражданской войны, возникает в булгаковском очерке «Путевые заметки. Скорый № 7 Москва – Одесса» (весна 1923 г.): здесь перед рассказчиком, подъезжающим к Киеву, «мелькает смутная стертая надпись на паровозе – “Пролетар...”» (2, 301).
36![]() Яблоков Е. А. Художественный мир Михаила Булгакова. С. 346.
Яблоков Е. А. Художественный мир Михаила Булгакова. С. 346.
37![]() Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы: Очерки русской литературы XX века. М., 1994. С. 96.
Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы: Очерки русской литературы XX века. М., 1994. С. 96.
38![]() Ср. в очерке «Москва краснокаменная»: «Жужжит “Аннушка”, звонит, трещит, качается. По Кремлевской набережной летит к храму Христа» (2, 226); правда, вблизи Патриарших прудов трамвай «А» не ходил – рядом, по Садовой-Кудринской, ходил трамвай «Б» (Мягков Б. С. Булгаковская Москва. М., 1993. С.100).
Ср. в очерке «Москва краснокаменная»: «Жужжит “Аннушка”, звонит, трещит, качается. По Кремлевской набережной летит к храму Христа» (2, 226); правда, вблизи Патриарших прудов трамвай «А» не ходил – рядом, по Садовой-Кудринской, ходил трамвай «Б» (Мягков Б. С. Булгаковская Москва. М., 1993. С.100).
39![]() Гаспаров Б. М. Указ. соч. С. 42.
Гаспаров Б. М. Указ. соч. С. 42.
40![]() Вышитую Маргаритой на черной шапочке главного героя букву «М» по аналогии с трамваем «Аннушка» можно воспринять как намек на эмблему метрополитена – тем более, что с образом Мастера явно связаны «подпольные», «подземные» мотивы (подвал и т. п.). Кстати, первая линия метро была открыта в Москве как раз в день рождения Булгакова – 15 мая 1935 г.
Вышитую Маргаритой на черной шапочке главного героя букву «М» по аналогии с трамваем «Аннушка» можно воспринять как намек на эмблему метрополитена – тем более, что с образом Мастера явно связаны «подпольные», «подземные» мотивы (подвал и т. п.). Кстати, первая линия метро была открыта в Москве как раз в день рождения Булгакова – 15 мая 1935 г.